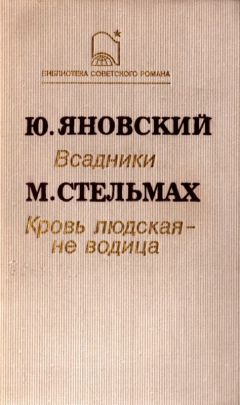— Эге, — коротко ответил Горицвит.
— Растревожили осиное гнездо. Ишь как завыло кулачье! Ни дать ни взять — волчья стая! Их бы воля — не одного из нас уложили бы за землю в землю.
— Да, — соглашается Тимофий, — помещики-то сбежали, а ихнее семя да коренье в кулацких хатах и хуторах так и шипит. Не отдадут нам богатеи своих полей даром. Придется еще крепко повоевать с ними. Не из таких Варчук и Денисенко, чтобы свою землю дарить. Видал я, какими глазами они на нас глядели. Морщинки на роже у Варчука так и корчатся, точно его живым в могилу кладут. — Горицвит даже вспотел от такой длинной речи.
— Ничто им не поможет. Прошлого не вернешь, хоть волком вой. Да ну их к бесу, гнездо гадючье! Лучше про жизнь поговорим.
Но разговор пришлось отложить — позади зацокали копыта, и мимо промчалась легкая бричка, накручивая за собой косой столб пыли. Сытые кони, закусив удила, вытянулись в струну и, казалось, не бежали, а летели, разметав крылья грив. Худой черный седок весь подался вперед, свесив согнутые в локтях руки, вот-вот упадет на лошадей. Он обернулся, и черные глаза блеснули неудержимой злостью, задымились синие белки.
— Сафрон Варчук! — удивленно пробормотал Тимофий.
— Тьфу! Куда его черти несут на ночь глядя? Неужто землю отрезанную смотреть? — Мирошниченко даже приподнялся.
— Как бы он в банду не подался. Недаром говорят, с Шепелем дружбу водил, а Гальчевский — правая рука Шепеля.
Пыль, поднятая бричкой, медленно улеглась, только взлетали вспугнутыми птенцами сухие листья.
На дороге, под высоким шатром деревьев, раскачивающим дрожащее, низкое небо, замаячила одинокая фигура.
— Гляди, это не твой Дмитро идет?
К ним легкой походкой приближался стройный белокурый подросток. Густые, с живыми искорками волосы, подрагивая, касались нависших, тяжелых, как два колоска, бровей.
— Добрый день! — поздоровался Дмитро со Свиридом Яковлевичем. — Куда вы? — И в темных глазах блеснул огонек догадки. — Барскую землю пахать?
— Свою, Дмитро. Нету теперь барской. Вся — наша. — Тимофий не заметил, что повторяет слова Мирошниченка.
— Наша! Даже не верится! — улыбнулся подросток и, ухватясь за грядку, ловко вскочил на телегу, свесил ноги и принялся отбивать пятками дробь по шине и спицам колеса. В каждом его движении чувствовалась гибкая, упругая сила, а румянца не погасил и густой загар.
— Не верится, говоришь? — загремел Свирид Яковлевич. — Это тебе, парень, не в экономии за пятиалтынный жилы выматывать. Теперь будешь на своем поле работать. Ты только вдумайся: первейший декрет Советской власти был о чем? О земле! Недавно в госпитале прочел я книгу «Пропащая сила»[14]. Тяжелая книга, про деревню. «Море темной простоты» — вот как написано там об измученных, ограбленных тружениках. И правда: чем отличался мужик от рабочего вола? Вол шагал впереди плуга, а мужик позади над чужим плугом грудь надрывал. А революция нас сразу из моря темной простоты до людей подняла. Без нее никому бы из нас не то что земли — жизни не видать.
— Даже за могилу на погосте надо было платить, — робко вставил Дмитро.
— Не в бровь, а в глаз! — одобрительно заметил Тимофий.
— Это товарищ Савченко объяснял, когда на митинге про союз рабочих и крестьян рассказывал, — оживился парнишка.
Мирошниченко с улыбкой посмотрел на Дмитра.
— Прислушивайся, парень, к таким речам. Это думы о жизни, наши, значит, народные думы. Надо понимать, что к чему, а главное — новым человеком становиться, солдатом революции. Это и есть твоя, Дмитро, дорога. Свернешь с нее — и все, считай — в мертвую воду вошел человек. Счастье мы в обеих руках держим. Важно не развеять его, как полову по ветру, не стать рабом земли, не стать сквалыгой, который и себя и детей своих без толку в землю вгоняет. Понял?
— Понял, Свирид Яковлевич, — ответил Дмитро, глядя в глаза Мирошниченку. — А где теперь наше поле? — спросил он у отца.
— У самого Буга, — ответил Мирошниченко вместо Тимофия. — Хорошая земля.
— И ваше поле рядом с нашим?
— Рядом. Доволен?
— Еще бы! — светлая, детская улыбка сделала удлиненное, по-степному замкнутое лицо подростка еще привлекательнее. — Разве такой день забудешь! — воскликнул он и умолк: может, не так надо было говорить с первым партийным человеком в селе?
— То-то! Эти дни всю жизнь нашу к солнцу поворачивают. — Мирошниченко придвинулся к Дмитру и вдруг покосился на его ноги. — Ты что выделываешь? Покалечиться захотел?
— Не покалечусь.
— Ты озоровать брось, подбери-ка ноги!
— А я не озорую. Я — в такт. Ведь даже когда на верстаке вытачиваешь что-нибудь или строгаешь, всем телом чуешь, как последняя стружка идет. Потом смеряешь кронциркулем — точнехонько… Так и тут. Возьмите меня с собой в поле.
— Без тебя обойдемся, — отозвался Тимофий. — Ты ж только из столярки, не поел даже.
— Ну и что ж? День-то какой… Слышите, в селе поют?
— Тут как не запеть? Эх, только бы нам скотины побольше! — задумчиво проговорил председатель комбеда. — Чтобы каждому бедняку по лошаденке дать… А то ведь за тяглом не одному придется на поклон идти к тем же кулакам, землю отдавать исполу… Как столярничаешь, Дмитро?
— Ничего, — сдержанно ответил подросток.
— Знаю, знаю, что хорошо. Старый Горенко не нахвалится: золотые руки у тебя, говорит.
— Какие там золотые! Обыкновенные… Будьте здоровы!
Дмитро смутился, соскочил с телеги и неторопливо повернул в село.
— Славный парнишка! — похвалил Свирид Яковлевич. — Только тоже хмурый, неразговорчивый, в тебя. Сегодня на радостях хоть немного разошелся.
— То и хорошо. Ему с речами не выступать, — пожал плечами Тимофий. — На коня крикнет «но», и ладно. А с земелькой уже и теперь управится не хуже взрослого. Поле не говоруна — работника любит.
— Хм! Куда загнул! — сердито и насмешливо фыркнул Мирошниченко. — По-твоему, вся и наука для парня — коней понукать? Каких только чудес от тебя не наслушаешься! Не для того, Тимофий, революция пришла, чтобы наши дети по-прежнему только скотину за повод дергали. Не для того!
«Это он славно сказал: не для того революция пришла, — запоминает цепким своим крестьянским умом Горицвит, привыкший больше думать и взвешивать, чем обобщать. — С головой человек. И откуда у него что берется?»
Земля в непрерывном мелькании то вставала дыбом, то убегала назад, то вновь подымалась горою. Среди разноцветных пятен Варчук безошибочно различал очертания, приметы своих полей. Все они сейчас воплотились для него в круглое число «30». Этот нуль, как страшный сон, преследовал Сафрона, вытягивал из него душу. Даже окрестные поля кружились перед ним, как этот нуль. «Тридцать десятин!» — с тоскливой злобой думал он, и от этих дум ныло и болело все нутро.
Промчавшись мимо хутора Михайлюка, бричка повернула в Литынецкие леса. Сафрон облегченно вздохнул, перекрестился, оглянулся вокруг и снова вздохнул. Ему все казалось, что комбедовцы дознались, куда он поехал, и послали погоню.
Зоркими, настороженными глазами вглядывался он в лес по обеим сторонам дороги, надеясь повстречать бандитский патруль. Но никого не было видно…
Измученные лошади, тяжело поигрывая пахами, перешли с карьера на рысь, и зеленоватое мыло падало с покрытых пеной удил на серую супесь, усеянную красными желудевыми чашечками.
Сафрон спрыгнул с брички и мягкой овсянкой тщательно вытер лошадям спины и бока.
Тишина. Слышно даже, как желудь, тугой, будто патрон, перепрыгивая с ветки на ветку, падает к подножию дуба и отскакивает от травы кузнечиком, чтобы ловчее припасть к земле.
«Неужели выехали? — Варчука пробрала холодная дрожь. — Не может быть! А что, как махнули в другое село? Найду. На краю света найду! Выпрошу, вымолю у Гальчевского, чтобы всех комбедовцев передушил… Тридцать десятин отрезать! Чтоб вас на куски покромсали!»
На висках у него набухли жилы, гудела, разрываясь от боли, голова.
— Но-о, дьяволы! — крикнул он, срывая злость на лошадях, свирепо взмахнул арапником, и две влажные полосы легли на конские спины.
Вороные тяжело затопали по дороге; за бричкой между деревьями торопливо побежало грузное предвечернее солнце.
Когда Сафрон въехал в притихшее село, на землю уже пала роса. Варчук огляделся, и у него на лбу сразу разгладился жгут морщин. На мостике стояли двое бандитов, глядя на приезжего из-под высоких, сбитых набекрень смушковых папах. Неподалеку паслись нестреноженные кони.
— Добрый вечер, ребята! Батька дома? — нарочито веселым и властным голосом спросил Варчук. Иначе нельзя: увидят — робеет человек, и лошадей отберут.
— А ты кто таков будешь? — Высокий, косолапый бандит, поигрывая куцым обрезом, подошел вплотную к Варчуку.