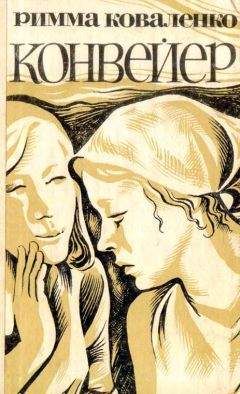Он положил ей на тарелку три котлеты — так они лучше смотрелись. Чтобы не отказывалась, сразу предупредил:
— Сколько съешь, столько и съешь. Ты только посмотри, какие получились.
Татьяна Сергеевна ковырнула котлету вилкой, поглядела в окно и вздохнула.
— Каждый день одно и то же. Там — конвейер, здесь — ты. И так до самой смерти.
Лавр Прокофьевич замер. Не сразу понял, о чем это она. А когда до него дошел смысл сказанных слов, обида подкосила ноги. Опустился на табуретку.
— Не нравится — не ешь. И живи по-другому, если не нравится.
Татьяна Сергеевна глядела в тарелку голодными глазами, котлеты остывали, рядом страдал Лаврик, но ее будто что подхватило и понесло, не могла остановиться.
— А ты разве доволен такой жизнью?
— Доволен, — ответил Лавр Прокофьевич, — до этой минуты был доволен.
— В этом-то все и дело. Ничего тебе не надо. И я рядом с тобой никуда не стремлюсь, старею.
Она не глядела на мужа и не видела, как у него потемнело лицо, опустились над глазами брови.
— Стремись, — сказал он. — Молодей, если охота.
Не поднимая на нее глаз, он встал и вышел из кухни. Татьяна Сергеевна поняла, что переборщила, пошла за ним.
— Электролитов опять нет. Завтра опять будем гнать блоки без них и складывать у стенки. А ответственность никто на себя не берет. Как же, Соловьиха выручит, ребятки не подведут, придут в субботу, заштопают дырки. Я решила писать в партком или самому директору. Как ты на это смотришь?
— Я на тебя смотрю, — Лавр Прокофьевич поднял глаза, — смотрю и вижу, что тоска тебя взяла. Только зря ты в этом меня одного винишь, сама тоже виновата. Надо было в молодости кого повеселей выбирать.
Обидела она его, факт. Всю свою досаду за сегодняшний день на него опрокинула. Котлет нажарил, ждал, а она кнут свой занесла: не по коню, так по оглоблям.
— Ты за котлеты обиделся? Так я их сейчас съем.
— Ешь, если хочешь. Помнишь, ты говорила: я Лешку не брошу, если я его брошу, то кого угодно подвести и бросить смогу. Поверил я тогда тебе. Зря поверил.
— Все уж к одному: при чем здесь Лешка?
— А при том, что, может быть, я его место в жизни занял. Жила бы с ним и тоски бы не знала.
Вот как он перевернул ее слова. Жизни сколько прожито, что уж тут старое ворошить…
— Тяжело мне, Лаврик. На работе тяжело, потому и дома места себе не найду. Нету давно уже Лешки, и не рви мне сердце.
— Как же это нету? — Лавр Прокофьевич попытался улыбнуться. — Не помер, — значит, где-нибудь да есть.
Говорит и сам себе верит, себе и ей сердце надрывает. Уж как ударит беда, жди, что потолок рухнет.
— Нельзя так, — Татьяна Сергеевна устала от несправедливых слов мужа, не его это были слова. Просто прорвалась обида. Пора мириться, есть и нахваливать его котлеты. — Нельзя нам с тобой, Лаврик, так обижать друг друга.
— Нельзя, — согласился он, — а быть тебе со мной, не видя меня, разве можно?
Село Покровское, в котором жили Лиля и Степан Степанович Караваевы, лежало в низине. Дома тянулись единственной улицей, в ниточку, до самого центра, где рассыпались без всякого порядка в зелени палисадников и огородов. Здесь, в центре, стояла двухэтажная школа, в которой десять лет училась Лиля. Напротив школы играли на закате пурпурными стеклами новый универмаг и новый Дом быта. Вернее, новыми они были, когда Лиля уезжала отсюда, сейчас говорили просто: «универмаг», «мастерская». Вывески на Доме быта висели те же: «Мелкий ремонт и пошив одежды», «Химчистка», «Парикмахерская», но ничего та кош в этом доме по-прежнему не было, а была обыкновенная мастерская, в которой шили большими партиями спецодежду для животноводов всего района да иногда какой-нибудь настырной бабе из соседнего села удавалось заказать здесь платье или пальто с зимним воротником.
Дом Караваевых стоял в самом начале улицы, вдали от центра. Калитка с огорода вела на лужайку, за которой сразу начинался густой еловый лес. А если пойти лужком направо, то выйдешь к речке. Купаются дальше, где речка поворачивает, там бережок песчаный, отлогий. А у Лили своя тропиночка, свой спуск к воде с высокого берега, поросшего травой. Никогда не думала, что заросшая тропка, след которой скорей угадывался, чем сохранился, больней всего ударит по сердцу. Пришла к реке, сняла платье, легла на старое одеяло, сложенное вдвое: лето проходит, а она белая, как картофельный росток. Все заросло: и тропинка, и детство ее, и верность подружек. Даже у Аньки Пудиковой в глазах одно любопытство, ждет не дождется, как Лиля будет расправляться с Варварой. Сына в первый же вечер притащила, Алика. Мордатый, раскормленный, полтора года, а знает всего два слова: «мама» и «дай». Такой же тупарь вырастет, как и сама Анька. И Семен ее не похож на инженера. Да и какой он инженер! Техникум окончил. Тут, в колхозе, и академиком могут назначить, но что от этого меняется.
В тот первый вечер набилось в дом много гостей. Анька всех оповестила, что Лиля вернулась. Большая разница: приехал или вернулся. К приехавшему не ломятся без приглашения, приехавший — гость. А уж кто вернулся — с этим считаться нечего: лезут в дом толпой, без приглашения. Варвара и отец это предусмотрели. Пирогами и пирожками стол уставили, салат Варвара приготовила особенный, с рыбой, картошкой и зеленым луком, заправила конопляным маслом. Все с ума посходили от этого салата. «Варвара Артамоновна, да это же пища богов!» Не перед Варварой, перед ней, Лилей, выставлялись. «Пища богов», мы тут тоже. Лилечка, не лыком шиты. В конце застолья появился Колька Завьялов, рот до ушей в улыбочке, — видать, стаканчик хватил перед появлением для храбрости. Один пришел, жену свою, Вальку, дома оставил.
— Где же пиджак твой венгерский? — спросила его Лиля. Спросила просто так, чтобы всем показать: никаких у нее обид на Кольку, одни только веселые воспоминания.
— Продал, — с порога ответил Колька, — вернулся из армии, а он мне мал. С руками выхватили, восемьдесят рублей взял.
Вот она, деревня. Спроси у него: что ж ты, изменщик, меня не дождался, на Вальку променял, он тут же с порога при всех ответит: ты же мне писать перестала, отвергла.
Но не все были такими простодушными, как Колька. Словом поддевали, взгляды на своих руках ловила Лиля: не выдержали рученьки заводского труда, маникюрчик навела, но ведь не щеки этими ручками в городе подпирала.
— Лиля, ну расскажи про конвейер. Как на нем? Что делала?
— Блоки делала для цветных телевизоров.
Что им расскажешь? Конвейер — это Соловьиха за спиной: «Лилечка, перестань о Варваре думать». — «Я не думаю». — «По спине вижу, что думаешь, не бросишь — к концу смены не разогнешься». А это Надька Верстовская: «Лилечка, Лилечка, я на тебя посмотрю и потом весь день думаю: ну почему одни красивые, а другие нет?» Не любила Верстовскую. А за что? Что ей Надька плохого сделала? Перед Шуриком вертелась? Ну вертелась, так он же на нее не обращал внимания. Как им расскажешь про Зою, про Колпачка, которого мать в обед в столовую со всеми не пускает, из своих рук кормит? И про Наталью. Царицей по цеху ходит, хозяйкой себя представляет, а самой ни до кого дела нет. А уж про Шурика Бородина даже самая близкая подруга ничего не поймет: «Да какая же у него могла быть любовь, если звал кривобокой?»
Поднялись из-за стола все вместе. Анькин Семен взял спящего Алика на руки, пошел впереди, Лиля с Аней сзади.
— И куда ты теперь? — спрашивала по дороге Аня. — До экзаменов в институт год впереди. Что будешь делать?
— Не знаю. Поглядела на всех, послушала, каждый сам собой доволен, никому ни до кого дела нет.
— А чего ты ждала? — В Анькином голосе послышалась неприязнь. — Тебе в городе разве было до нас дело? Ты на всех глядела, как с другого берега. Вот и на тебя теперь так же. Если бы ты знаменитостью в городе стала, тогда бы могла обижаться, что почета не оказали.
— Значит, знаменитость вам дорога. А просто человек не нужен?
Аня вымещала на ней свою давнюю обиду.
— Ты, Лиля, очень хорошо к себе относишься. Это твое личное дело. А людям за что тебя любить? Ну, сама подумай, за что? Ты же, кроме себя, никого не видела. Колька Завьялов, я тебе писала, как после армии по тебе убивался, а пришел сегодня, ты пиджак вспомнила, ничего другого в твоем сердце не шевельнулось.
— Ну, спасибо, подруженька, — Лиле надоели Анькины упреки, — все мне понятно. Пироги ели, вино пили, а за порог вышли, через плечо плюнули.
— Не твои пироги ели. — Аня остановилась: дескать, отшагали, дальше не провожай. — Варварины пироги ели мы. И ты тоже…
Варвара не спрашивала: что думаешь делать, куда теперь? Вела себя спокойно и независимо. Утром поднималась вместе с отцом, ела с ним яичницу со сковородки, а если Лиля выходила к завтраку, отделяла ей, кидала на тарелку, говорила: «Извини, что мы так, наспех. Экономим время, да и посуду мыть не надо». Наливала в три кружки молока, одну ставила перед Лилей. Отец во всем подчинился ей, даже виноватых взглядов не бросал на дочь. Однажды сказал: