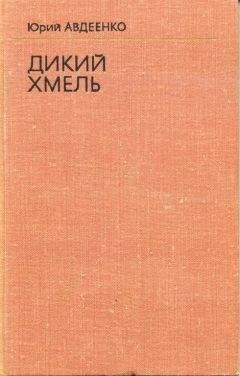Я редко бывала на вечерах в нашем клубе «Альбатрос». За все время работы, может быть, два раза. Но в тот вечер не хотелось домой. Увидела афишу. И решила послушать студентов.
В перерыве пошла в буфет. Буфет улыбался розовым пластиком столов, желтыми стульями на трубчатых ножках. Взяла бутерброды, бутылку кефира. Столики все оказались заняты. Заметила Широкого: он смотрел на меня и махал рукой.
Начальник цеха пил пиво в компании незнакомого мне мужчины. Видом мужчина отличался невзрачным, глазами пугливыми. Когда я подошла, он торопливо выпил остатки пива, сказал заискивающе:
— Спасибо, Георгий Зосимович.
— Давай, давай, — барственно ответил Широкий. Мужчина, ссутулясь, ушел.
— Никогда вас раньше не видел в клубе, Миронова. Даже по праздникам, — сказал Широкий, странно улыбаясь.
— Склероз, Георгий Зосимович. На собраниях сколько раз рядом сидели.
— Собрания не в счет. Я про веселье говорю. Про музыку... Это правда, что ты разошлась со своим мужем?
— Очень важно знать?
Широкий сморщил лоб, видимо обозначая глубокое раздумье. Изрек:
— Семья — ячейка государственная. А я все-таки твой начальник... Могла бы поделиться.
— Поделиться?.. Что вы, мне другого мужа найдете или свою кандидатуру предложите? — насмешливо спросила я.
Глазки Георгия Зосимовича превратились в щелочки — до того понравился ему мой ответ. Он с удовольствием отхлебнул пива. Крякнул, нет, квакнул, как лягушка. И, вздыхая, сказал:
— Другого мужа тебе искать не стану. Сама найдешь. Такие женщины на дороге не валяются. А в отношении моей кандидатуры, то...
— Помозговать надо, — подсказала я, видя, что Широкий замялся.
Георгий Зосимович закашлялся, поскреб ногтями затылок.
— Правило у меня есть такое, — наконец сказал он. — С подчиненными ни-ни-ни...
Я подалась вперед и сказала ему почти шепотом:
— Народная мудрость учит: всякое исключение подтверждает правило.
Широкий попятился назад вместе со стулом. Мне показалось, что у него перехватило дыхание. Наверное, от удивления.
Но, приглядевшись к моему лицу, готовому разорваться от смеха, он вдруг понял все. И сказал, покачивая головой:
— Шутница ты, Миронова. Шутница. Не люблю я шутниц...
— А кто их любит?
— Это верно, — согласился Широкий. — Вот, Закурдаеву мы все-таки переизбрали.
— Когда?
Мне показалось, что я ослышалась.
— Сегодня, — довольно, почти ласково ответил Широкий.
Я побледнела. Однако попыталась скрыть волнение. Сказала укоризненно:
— Нехорошо, Георгий Зосимович. Могли бы и посоветоваться с председателем цехкома.
— Ну... Это ты уж на себя много берешь. Бригадирство — дело не профсоюзное, а скорее административное. Ты теперь не член бригады. У тебя более ответственные обязанности.
Похоже, что эти фразы были заранее подготовлены. Он говорил их, словно читал наизусть. Впрочем, возможно, я ошибаюсь: Широкий всегда говорит много и охотно.
Я не собиралась уступать. За семь лет Буров научил меня спорить. И я была уверена, что у Широкого скорее печень заболит, чем он добьется, чтобы я с ним согласилась.
— Между прочим, — сказала я, — злопамятство никогда и никого к добру не приводило.
— У каждого свой характер, — улыбнулся Широкий и нервно застучал пальцами по столу.
— Характер зависит от воспитания, от внутренней культуры человека...
— Иными словами, я бескультурный, невоспитанный мужчина.
— Я говорю только о характере.
Через несколько дней, в конце работы, в фабричной проходной раздался телефонный звонок. Чей-то женский голос сказал начальнику охраны:
— Сейчас из фабрики будет выходить Георгий Зосимович Широкий. Проверьте у него портфель.
Я не знаю, как работает охрана. Полагаю, что есть у них какие-то инструкции, которыми они руководствуются. Во всяком случае, проверяют они выходящих из фабрики рабочих крайне редко. Но если уж кого проверяют, то всегда не без пользы. Молодцы!
Начальник охраны знал, кто такой Широкий, знал его положение на фабрике. Потому удостоил чести встретить лично. И, чтобы не привлекать внимания рабочих, сказал:
— Георгий Зосимович, там у меня телеграмма для тебя. Зайди в мой кабинет.
Ничего не подозревающий Широкий пробормотал:
— От кого бы?
И пошел вслед за начальником охраны.
В кабинете ему предложили открыть портфель. Широкий будто бы произнес:
— Вы что, смеетесь?
Но портфель открыл. В портфеле под яблоками, которые начальник цеха купил в обеденный перерыв в буфете, оказались три левых полуботинка. Все разных размеров.
Потрясенный Широкий попросил валидола и сел на диван. Рассказывают, что он долго недоуменно повторял:
— Первый раз вижу. Первый раз вижу. Ну подумайте, зачем мне три левых полуботинка? И все разных размеров!
Начальник охраны не слышал его или не хотел слышать.
Писал рапорт на имя директора фабрики.
...Луцкий всегда казался мне личностью загадочной. Еще не старый, даже, скорее, молодой, он носил на лице маску умудренного, пожившего человека. Всегда был осторожен в высказываниях и тем более в решениях. Худоба и высокий рост в сочетании со светлыми, чуть желтоватыми волосами и глазами холодными, неугомонными, как морская волна, делали его в моем представлении похожим на финна или шведа — человека северного, оказавшегося на фабрике волей туристической путевки. Когда он, гордо неся свою голову, шел по нашему цеху и взгляд его, точно шарик пинг-понга, быстро прыгал справа-налево, я ожидала услышать на ломаном русском языке:
— Здрафствуйте, тофарищ!
Но Луцкий чаще всего проходил молча. А по-русски говорил, может, даже лучше, чем я.
Он вызвал меня утром. Без всяких эмоций, словно регулировщик уличного движения, протянул руку. В руке — рапорт начальника охраны.
Кабинет от края до края заполняла тишина: так зеленоватая, неподвижная вода заполняет аквариум. Окна еще дремали под кремовыми шторами. И стулья понурились, как утомленные за ночь сторожа.
— Обращаюсь к вам, как к члену парткома. Что вы думаете по этому поводу? — голос у Луцкого был поставлен завидно, под стать диктору телевидения.
— Я думаю, провокация.
— Иными словами, вы верите в то, что кто-то в порядке шутки или мести положил Широкому в портфель три левых ботинка разных размеров?
— Да, верю.
— Так шутки или мести? — равнодушно, но громко спросил Луцкий.
— Вчера было не первое апреля, сегодня не второе.
— Я знаю, какое сегодня число, — Луцкий смотрел на меня не мигая.
Я смутилась под его взглядом, кажется, покраснела. Однако сказала:
— Почему бы и нет?
— Что нет?
— Почему бы вам, директору объединения «Альбатрос», не знать, какое сегодня число?
Он усмехнулся непонятно чему — то ли моим словам, то ли каким-то своим тайным мыслям. На несколько секунд опустил глаза, смотрел на календарь, радужно-серый, отпечатанный Гознаком на денежной бумаге, потом вновь перевел взгляд на меня:
— Значит, месть?
— Скорее всего, да, — ответила я.
— У Широкого есть враги? — спросил Луцкий с некоторым оттенком удивления, легким, как дымок маленького костра.
— Я не знаю, есть ли враги. Для меня враги существуют только в книгах и фильмах: фашисты, белогвардейцы. Но люди, недовольные Широким, в цехе есть.
Луцкий подпер высокий свой лоб ладонями и вздохнул откровенно и тяжело. Сидел так долго. Молчал. Потом шумно встал. Подошел к окну и решительно раздвинул шторы. Голубое небо за стеклами смотрелось, словно цветок.
— Однажды я уже предлагал вам, — сказал Луцкий, стоя вполоборота к окну. — Пойдете начальником цеха?
— Вместо Широкого?
— Вместо Широкого.
— Но... Он хороший работник. Опытный.
— Хорошего, опытного работника мы всегда найдем где использовать.
— Нет, не пойду.
— И это отвечает коммунистка?
— Вы спрашиваете. Я отвечаю. Я имею право отвечать честно?
— Имеете.
— Тогда о чем разговор?
— Разговор о деле. О нашем общем с вами деле.
У него был совсем другой голос, чем у Бурова. Другой не только в смысле тембра. Даже очень интересные мысли Буров всегда высказывал однотонно, несколько тягуче, как посредственный лектор. Голос же Луцкого был насыщен разными тонами, словно радуга разноцветьем. Последнюю фразу он произнес почти дружески, интимно, она казалась неуместной для официальной кабинетной обстановки, но вместе с тем будто бы приподнимающей наш в общем-то сугубо производственный разговор до хорошего человеческого откровения.
Похоже говорила моя мама. Она произносила самые обыкновенные, много раз слышанные слова так, будто секунду назад их придумала: «Мыло серо, да моет бело».
А я не любила мыться с мылом. Мыло принимала за бедствие. И всегда, приведя меня к раковине на кухне, мама не забывала произнести эту нехитрую пословицу, которую я, конечно, помнила, но которая в устах мамы, вновь и вновь поражала меня своим звучанием, неожиданным, неповторяемым.