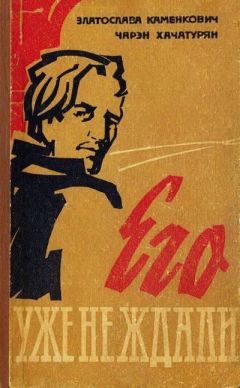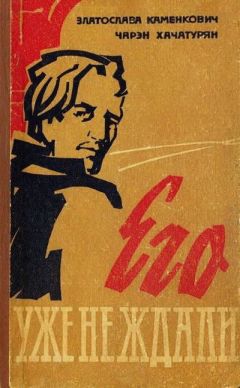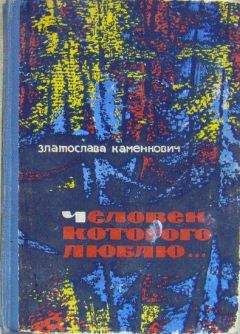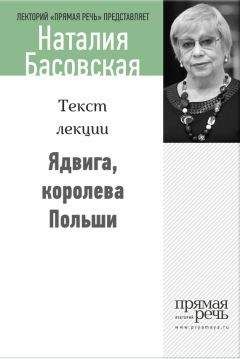Глава тринадцатая
НОЧЬ НА ПЕСКОВОЙ ГОРЕ
Казимир Леонтовский, наивный деревенский парень, наконец начал осмысливать то, что так долго и, казалось, безуспешно разъясняли ему рабочие и студенты, приходившие в бараки. Прозрение Казимира походило на удивление ребенка, неожиданно открывшего для себя, что у курицы не четыре ножки, как у кошки или собаки, а только две. Ребенок еще не совсем уверен в этом, он еще бегает но двору и пересчитывает ножки у других кур.
Чтобы окончательно убедиться в том, что хозяин поляк обманывает рабочего-поляка, Казимир получит не один наглядный урок.
Моросил дождь, когда неожиданно нагрянула полиция и потребовала от рабочих немедленно освободить бараки. Весть о выселении мгновенно облетела поселок, где шла война с штрейкбрехерами с момента их появления на лесопилке.
К месту происшествия сбежалась любопытная детвора, а вскоре возле входов в бараки толпились и жены тех, кто мужественно продолжал забастовку.
Давидка, окруженный поселковыми ребятишками, с солидным видом комментировал события:
— Вот мы и сказали — шабаш! Страйк! Ведь правильно? Нам нечего терять, кроме своих цепей!
Правда, Давидка и сам не все понимал насчет цепей, он что-то не замечал их ни на ком из рабочих лесопилки. Но если старшие говорят, значит так должно быть.
Внимание Давидки привлек Казимир, который сердито кричал на управляющего:
— Не имеете права! У нас за ночлег уплачено до субботы! Мы…
— Молчать, тварь! — оборвал его пан Любаш. — Можете получить назад свои несчастные крейцеры! А из бараков — вон!
— Не пойдем! — воскликнула какая-то женщина с ребенком на руках.
Казимир по натуре был вспыльчив, горяч. Кто знает, чем закончилась бы стычка с управляющим, если бы не этот женский крик, сразу охладивший парня.
Из бараков один за другим выходили рабочие: кто с деревянными самодельными чемоданами, кто с котомками, в которых были собраны жалкие пожитки. Люди в нерешительности топтались около бараков, не зная куда податься.
Из толпы снова крикнула какая-то женщина не то зло, не то сочувственно:
— Идите на Песковую гору! Там много бездомных собралось!
Казимир провожал глазами унылых людей, у которых отняли работу и кров. Сам он не мог решить, что делать дальше.
«Пойти вместе со всеми? — думал он. — А если крестный вернется?» Парень с тоской поглядел на брезентовый саквояж Юзефа, и снова тревожно сжалось сердце.
«Куда старик мог пропасть? Уехал в село? А вещи? Зачем вещи тут оставил? И почему ничего не сказал? Без денег куда он поедет? Ведь он мне все отдал на хранение…»
Казимир отчетливо представил себе исхудавшее лицо Юзефа с впалыми потухшими глазами. Очень страдал крестный. Без слез не мог вспоминать жгучую обиду, которую унес из дома ясновельможного графа. Разве ж не он, Юзеф, отдал им всю свою молодость и силу? Он был верным, преданным слугой. И вот на склоне лет Юзефа выбросили, как старую, ненужную вещь.
Ясновельможный граф, такой образованный, такой обходительный, конечно, не оставил своего старого слугу без внимания. Он даже просил Юзефа не обижаться. Мол, судьба… Что он может поделать, если графиня невзлюбила Юзефа! Граф дал слуге пятьдесят гульденов и сказал, что пришло время ему отдохнуть.
«А может быть, у графа совесть заговорила и он вернул старика? — подумал Казимир. — Схожу узнаю».
И Казимир отправился в город.
Тучи над Песковой горой рассеялись, ветер утих, показались звезды.
Восточный склон горы был похож на огромный кочевой табор. Тут и там дымились костры. Люди жались ближе к огню, чтобы согреться и обсушить одежду. Пожилые мужчины и женщины, уставшие, охваченные унынием, почти не разговаривали между собой. Молодежь бодрилась, шутила.
— Вот пожалуйста, разве ж тут не просторнее, чем в бараке? — блаженно растягиваясь на рогоже, невесть где добытой, улыбался мускулистый пильщик. — И клопы не кусают, и за ночлег платить не надо. А воздух!
— Знаешь, Андрусь, мне врачи приписали спать на свежем воздухе, — присаживаясь рядом, шутил долговязый, изнуренный молодой рабочий.
— Хо-хо, свет ты наш! — горько покачал головой Василь Омелько, глядя на шутников. — А земля под ногами, небось, тоже барона? Позовет он полицию, ну и опять турнут отсюда. Куда денетесь?
На Песковой горе появился и Кузьма Гай. Бледный, с перевязанной рукой, он ходил среди людей, слушал разговоры, оценивал настроение.
«Если товарищам удастся договориться и каждая рабочая семья согласится приютить у себя хотя бы одного бастующего, тогда мы скрутим барону шею, — думал Гай. — Они ушли два часа назад… Время есть, можно успеть многое сделать…»
Где-то близко послышался печальный голос:
— …Утром крестного нашли. Повесился в саду, перед дворцом наместника… Похоронили, конечно, тайно. Граф приказал всем слугам держать язык за зубами… Садовник, приятель крестного, мне все рассказал. Говорил, что честный Юзеф хотел смертью своей совесть у графа разбудить… Добрый был старик. С детства трудился. Деньги, которые получал у графа, раздавал бедным родичам. «Зачем, говорил, мне деньги? Харчи, хвала пану богу, имею, есть где голову приклонить…»
Гай молча прошел дальше. Его заинтересовал незнакомый молодой рабочий, который раздраженно спорил с людьми, сидящими вокруг костра:
— Как стадо овец! Кто во главе станет, за тем и бредем. Думаем, к зеленому пастбищу приведет! Вот, привел… Я сыт по горло! Завтра же пойду на тартак и стану на работу!
— И будешь дурак дураком! — заметил парень, сушивший над огнем куртку.
— Пусть! Я не хочу здесь околевать, как пес бездомный! Ваш Гай, наверное, лежит себе под боком у жинки в теплой хате…
Гай не задержался, молча прошел мимо.
У другого костра кто-то сквозь душивший его кашель говорил:
— Еще отаких две-три ночки на голой земле, и я, бигме,[62] богу душу отдам.
— Куда нам с бароном тягаться… — проныл его собеседник.
Люди тосковали, роптали, иные открыто обвиняли Гая и утверждали: зря присоединились к забастовке.
Гай подошел к самому большому костру, который по его совету разожгли рабочие. Яркое пламя разорвало сгустившуюся тьму, и продрогшие люди потянулись со всех сторон к огню. Когда пламя улеглось, люди плотным кольцом сгрудились у потрескивающих веток.
— Тихо! Тихо, люди-и-и!
Многие узнали Кузьму Гая.
Притихли.
— Братья! Люди! Начиная нелегкую борьбу, мы знали: барона ничто не остановит. У нас первые трудности, а я уже слышал среди вас не только роптание…
Странное чувство охватило Казимира. Неожиданно для себя он очутился в двух шагах от Кузьмы Гая. Не переводя дыхания слушал оратора, слова которого глубоко западали в душу.
Казимир читать умел, а вот писать не научился. Школу в селе открыли, когда Казимиру пошел шестнадцатый год. Известно, в эту пору сельскому парню не до учения: с утра до ночи на работе. Пришлось как-то зимой воду носить в школу: сторож захворал и слег. Тут и началось первое знакомство Казимира с грамотой. Букварь выменял у войтова[63] сынишки на деревянного медведя. (Казимир ловко умел вырезывать из дерева птиц и зверей). Взяв с мальчишки клятву, что тот не проболтается отцу, куда девал букварь, Казимир принялся за учебу. Спустя два года сын войта начал таскать из дома книги для Казимира. В этих книгах всегда описывались подвиги польских королей и принцев…
Но юноша, о котором сейчас рассказывал людям Кузьма Гай, не был ни королем, ни принцем. Его звали Данко. И он повел свой народ на волю из рабской жизни.
— «…Трудный путь это был! Темно было, и на каждом шагу болото разевало свою жадную гнилую пасть, глотая людей, и деревья заступали дорогу могучей стеной… И вот стали роптать на Данко, говоря, что напрасно он, молодой и неопытный, повел их куда-то. А он шел впереди их и был бодр и ясен…»
Отблески огня освещали открытое лицо Гая. И не одному Казимиру — многим казалось, что волосы у Гая совсем не седые, а русые, и весь он — высокий, плечистый, с живым огнем и силой, которая светилась в его очах, походил на того Данко, о котором рассказывал.
«…Остановились путники и под торжествующий шум леса, среди дрожащей тьмы, усталые и злые, стали судить Данко.
«Ты умрешь! Ты умрешь!» — ревели они.
«А лес все гудел и гудел, вторя их крикам, и молнии разрывали тьму в клочья… Данко любил людей и думал, что, может быть, без него они погибнут.
— Что сделаю я для людей?! — сильнее грома крикнул Данко.
И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над головой.
Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям, а тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая пала в гнилой зев болота. Люди же, изумленные, стали как камни.