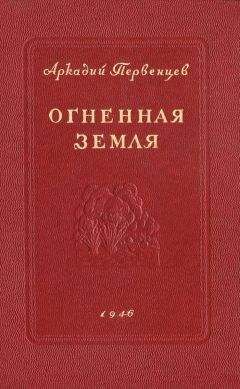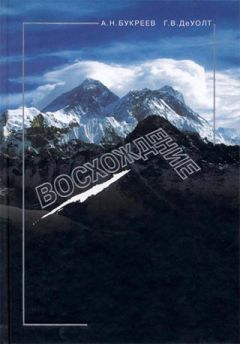Горбань лежал на корабельной койке, возле него расположились Таня и Тамара с аккуратно уложенными локонами, видневшимися из‑под ушанки. Девушки встали при появлении комбата, а Горбань тоже сделал попытку подняться.
— Лежи, лежи, — Букреев поздоровался со всеми за руку, присел у койки, — что говорит медицина, Горбань?
— Пятку пробило, товарищ капитан.
-— Что скажет медицина?
— Не хотел перевязываться, — сказала Таня, — еле уговорили. Ранили, намял еще дополнительно и развезло. Видите, жар. Температура даже поднялась.
— Что же ты, Саша?
— Я думал — так себе.
— Так себе! Деревенщина, — строго пожурила его Таня.
— Придется отправить на Большую землю.
— Не поеду.
Если нужно будет, — поедешь, — сказала Тамара, поглядывая веселыми глазами на Букреева. Товарищ капитан, я прошу, — Горбань приподнялся. — Перевязали и ладно.
— Ладно, помолчи. Отлежись пока.
— А кто с комиссаром будет, товарищ капитан?
— Не твоя кручина.
— Будут еще катера? — спросила Таня.
— Обещали прислать. Надо вывезти тяжело раненых.
— Меня только в тяжелые не зачисляйте.
— Хорошо, не зачислим, Саша, — Таня погладила его спутавшиеся волосы, — до свидания, Санчо–Пансо.
— До свидания, Таня.
Тамара тоже собралась уходить и стояла возле Тани, покусывая губы и с тем же лукавым вниманием изучая смущавшегося под ее взглядом Букреева.
— Если будет катер, товарищ капитан, узнаете насчет Курасова? — спросила Таня.
— Все узнаю. Он наверное опять у Чушки.
— Где же? Вероятно там.
Тамара кивнула головой и вышла из капонира с пренебрежительно откинутой головой и таким же выражением, застывшим на ее красивом, тонком лице.
— А она не похожа на ту, что вы мне тогда описали?
— Это все напускное, Николай Александрович.
Букреев остался один возле Горбаня.
— Когда же письмо на «Севастополь» будем писать?
— Придется с Большой земли.
— Теперь можешь отчитаться.
— Вот когда вручат орден, тогда и напишу на линкор.
— Примета?
— Просто так, — Горбань замялся. — Придумал сам для себя такой морской порядок.
Они поговорили о разном и заговорили о Батракове. Горбань беспокоился, как будет обходиться без него комиссар, что будет кушать, «не попадет ли в какой‑нибудь случай».
— Трудно стало с ним, — искренно сетовал Горбань, — очень он смелый человек, ходит, куда надо и куда не надо. Ранили меня тоже по дурному случаю. Идем по берегу, вижу песок бьет по рукам, стреляют. А он идет себе шагом и идет. Ну, пока уговорил его свернуть, мне и попало. И то еще плохо, что он дюже глуховат стал.
— Как же вы с ним обходитесь?
— У нас морской порядок, — если потеряемся, он меня окликнет, а не я его. А я старался нарошно теряться, а сам слежу. Он обо мне беспокоится, и не так спешит. Живу с ним, как с отцом, товарищ капитан. — Горбань застенчиво улыбнулся. — Он меня, слышали, называет Сашкой. Сначала не привыкал никак. На корабле так не положено…
Три дня пролежал Горбань в капонире. И ежедневно Батраков навещал его, приносил что‑нибудь из пищи и долгонько просиживал у кровати своего ординарца. Беседы их, — если послушать со стороны, — носили странный характер; казалось, они все время ссорились между собой. Батраков, чувствуя, что так или иначе виноват в ранении ординарца, говорил с ним как‑то нарочито грубовато. Горбаню же казалось, что комиссар на него гневается, и он пытался искупить свою неизвестную вину, приступив к исполнению своих обязанностей.
Попытки Горбаня раньше времени покинуть койку встретили сердитый отпор Батракова. Так и уходил комиссар, досадуя на себя и в то же время оставляя Горбаня в растерянном состоянии.
Иногда раненый ковылял к телефону и разговаривал по душам с приятелем Манжулой, хотя тот обычно только выслушивал друга. Лежа на койке, Горбань в который уже раз пересчитывал заклепки на бортовом листе, содранном с катера и теперь приспособленном к потолку. С тоской сильного человека, вынужденного бездействовать, Горбань прислушивался к непрерывной стрельбе и рокоту моря. Волны шуршали камешками и навевали дурные мысли, такие естественные в одиночестве.
Нога распухала. Горбань боялся, что она теперь не влезет в сапог. На утро после посещения комбата Горбань обнаружил возле койки домашние туфли, сшитые из шинельного сукна. Он подумал, что их забыл Букреев, но спрошенный по телефону Манжула недовольно буркнул: «Подарил товарищ капитан».
На четвертые сутки в пасмурную погоду от Тамани прорвался катер с продовольствием и боеприпасами. С появлением судна старший морской начальник оживил свое «учреждение», и в капонире за корабельный столик уселся дежурный, а сам старморнач отправился на берег для спешной разгрузки:
Вскоре после прихода катера из КП позвонил Манжула и сообщил приятелю о приезде его сестры Раи.
Пораженный неожиданной новостью, Горбань пробормотал в трубку что‑то невнятное, но вдруг услышал такой знакомый, быстрый с картавинкой, голос сестры. «Я здесь, Саша… Мы будем воевать вместе, Саша. Я быстренько пойду к тебе».
Как ни скучал Горбань по оставленной на Большой земле сестре, но ее приезд расстроил его. Сюда, в такое время! Он прилег на койку и с какой‑то ненавистью разглядывал свою забинтованную ногу, поджидая сестру.
Рая пришла веселая, одетая в чистенькую шинель (от таких шинелей давно здесь отвыкли). Сестру сопровождал сам старморнач. С шумными восклицаниями сестра набросилась на брата, принялась его целовать, тормошить. Горбань почувствовал давно забытые им запахи духов, пудры; целовал ее тугие, холодные щеки, покрытые смуглым румянцем, смеющийся рот.
— Отпусти, медведь, — вывернулась она, — я привезла тебе подарок.
— Покушать?
— Покушать? Нет. Я подарю тебе наган, Саша. Помнишь, ты еще мальчишкой мечтал именно о нагане?
Из санитарной сумки она вытащила быстрыми своими пальчиками с розовыми ногтями наган в обмятой кобуре.
Подарок был отложен Горбанем в сторону без особого ликования, что несколько обидело сестру. Она приподняла свои черные брови, подбритые поверху, покривилась.
— Какое равнодушие, подумайте!
— Как ты попала сюда? — тихо спросил Горбань, — и зачем тебя сюда принесло?
— Принесло? — Рая засмеялась, хлопнула брата по лбу, быстро сняла шинель, оставшись в хорошо сшитом кителе с беленькими погончиками лейтенанта медицинской службы. — Видите, слышите? — ее глаза блеснули в сторону старморнача, молоденького офицера с полными, юношески свежими губами, алевшими под жесткой ше- тиной небритых усов. — Сказано, брат! А если бы девушка–невеста приехала, не обижал бы так… Отвечаю тебе, непутевый. Попала сюда благодаря любезности контрадмирала. Узнала, что ты ранен, и попросилась.
Что‑то напевая и покачивая плечами, она быстро опорожнила свою сумку, встряхнула белую клееночку и разложила на ней привезенный с собой хирургический инструмент.
— А теперь посмотрим рану, — она раскрутила бинты, сняла пропитанную мазью повязку. — Перевязывался три дня назад? Угадала?
— Верно. Угадала.
— Так… так… Распутаем… Опухоль! Так больно?
— Нет.
— А так? — она нажимала пальцами припухшую загорелую ногу брата, внимательно вглядываясь в него. — Больно? — Тут тоже больно… Чего же молчишь? Вылечим и пустим в строй.
Задержавшись на Огненной земле, Рая сразу сдружилась с Таней и помогала ей в госпитале. Тамара почему‑то недружелюбно приняла Раю и скептически наблюдала за ней.
— Мне не нравится эта несносная болтушка, — призналась она Тане. — Стоило ей появиться, что стало со всеми мужчинами. Переполох.
— Уже и переполох, — укоризненно заметила Таня.
Подходил к концу ноябрь. Горбань, почувствовавший себя лучше, вылез из своей норы и снова укрепился обеими ногами на земле. А выйдя из капонира, Горбань загрустил. Уже не бродила по его открытому лицу безмятежная улыбка, не был спокоен тот короткий сон, который редко теперь ему доставался. Ординарец бегал прихрамывая, выполнял разнообразные поручения комиссара и всегда, если это было по пути, сворачивал в сторону белокаменного здания школы. Он засиживался у сестры и с видимым удовольствием, от которого разглаживались ранние морщинки на его лице, слушал болтовню сестренки, как он ее и мысленно и вслух называл, и в свой подземный «дворец» возвращался в плохом расположении духа.
Чуткий Батраков, уловив эту перемену, по душам, когда они остались вдвоем, объяснился со своим Сашкой. Не потому грустил ординарец, что кое‑кто не спроста начинал отдавать предпочтение его сестре, не потому, что все больше фыркала Тамара. Горбань боялся потерять сестру на Огненной земле. Он знал о концентрации немецких войск вокруг плацдарма, знал о тех испытаниях, которые должны вот–вот обрушиться на их голову, и глубокая тоска разъедала его сердце. «Тоска по сестренке» — откровенно, как отцу, признался он комиссару.