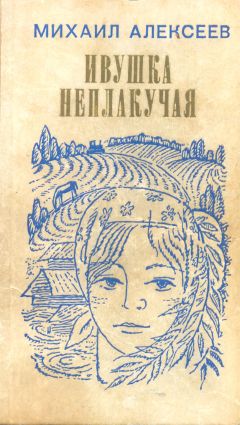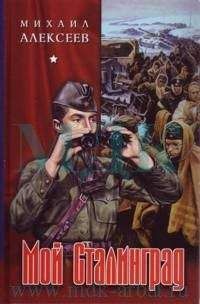— Неужели в райкоме ни одной машины не осталось?
— Ни одной. В начале сорок пятого последнюю на фронт отправил Федор Федорович. Теперь на лошадях в села выезжает. Так что, Сереженька, прпдется тебе вместе с нами на му-два до Завидова прокатиться, — заключила Феня улыбнувшись.
— Это еще что за машина такая — му-два?
— А вот сейчас увидишь. Вон она как раз выползает.
Вдалеке на грейдере обозначился возок, влекомый
Двумя волами. Вглядевшись в него, Феня сказала:
— Наша подвода, завидовская.
— Как это ты определила? — спросил в удивлении Сергей.
— По быкам. Видишь, какой слева от нас — это Веселый, а справа — Рыжий. Всю войну они с нами, бабами, провели, как же бы это нам их не узнавать! Почти всех мы сохранили. И этих вот двух, и Солдата Бесхвостого, и Ваньку, и Гришку, — она помолчала, перевела дух и закончила горестно: — Только Цветка не уберегли, отбился ночью от остальных быков, ушел к Орлову оврагу, там его волки и подстерегли — одни рога да копыта оставили нам на память от Цветка! А какой был вол — не животина, а прямо-таки человек, с полуслова понимал нас и слушался, не в пример Солдату Бесхвостому. Но и Бесхвостый, как и другие, до сих пор выручает колхоз — без них бы пропали совсем. Вот и теперь хлеб вывозим на элеватор все на них же, на быках, с хвостами и бесхвостых…
— Хлеб весь с полей убрали?
Феня с Авдеем переглянулись: давно, мол, оторвался от колхозных дел, иначе бы не задавал такого вопроса.
— Како там весь, — ответила Феня, — до самой зимы хватит нам этой уборки, подсолнухи, похоже, под зиму уйдут. Правда, их и по снегу можно убирать — высокие. А вот ежели с пшеничкой не управимся — беда. Остался у нас один-единственный комбайн, и тот давно бы отдал богу душу, если бы не дядя Степан. Только он как-то еще умудряется поддерживать в дряхлом этом старикашке жизнь…
Феня замолчала, и на этот раз потому, что волы были уже в десяти шагах от ожидающих. Феня и Авдей подивились, что погоняла их не женщина, как обычно, а помахивал кнутиком и покрикивал Тимофей Непряхин. На нижней губе его, как и всегда, держалась искуренная на три четверти самокрутка, а глаза щурились, силясь распознать, что же это за военный был среди его односельчан, которых он узнал еще издали.
— Никак, это ты, Серега?! — заорал он что есть моченьки, просияв от столь неожиданной встречи. И не в силах, видать, удержать в груди восторга, разрядился короткой матерщиной, которая с его уст срывалась так часто и так свободно и естественно, что не смущала не только чьего-нибудь мужского, но и женского уха. Однако сейчас Феня строго отчитала его:
— Что же ты материшься, бесстыдник! И какой он тебе Серега? Аль не видишь погон? Может, нализался с утра?
— Нет, Фенюха, это ты зря. Маковой росинки во рту не было. Честно говорю — не осквернял я своих уст вонючей этой гадостью.
— Что-то не верится.
— Иди, дыхну!
— Дыхни на свою Антонину. Зачем в район-то мотался?
— Не видишь — запчасти к тракторам везу. В ногах валялся у этого сквалыги Федченкова. Ему бы не директором МТС — наркомом финансов быть. Ну и скупердяй! Что там Зверев! Дай этому волю, он не то что яблоню, но и крапиву за твоим плетнем налогом бы обложил!
— Зачем же за глаза такое о человеке говорить! — остановила Тишку Феня. — Ты бы прямо ему и выложил все это.
Тишка протяжно свистнул, подмигнув при этом Авдею и Сергею:
— Нашла дурака! Тогда бы не эти вот поршня да коленчатые валы я вез в Завидово, а кругленький шиш с маслом! Я ему такую оду пропел, что любой скряга раскошелится! — Непряхин оживленно рассказывал, а Рыжий и Веселый, воспользовавшись неожиданной передышкой, расслабив члены, пережевывая жвачку, предавались откровенной лени. От доброго расположения духа их вечно грустные воловьи глаза сейчас сладко жмурились.
— Да что же это за ода такая? — допытывалась Феня, взбираясь на фуру и приглашая туда своих спутников. — Подхалимничал, значит?
— За такие слова, Фенюха, мне бы следовало тебя с воэа турнуть. Ты, милая, ввалилась ко мне, не Спрося разрешения…
— Видал его! Разрешения еще спроси! Аль быки в твою собственность поступили! Погоняй да рассказывай, как тебе удалось эти железки у Федченкова выцарапать. Ведь он и вправду скупой невозможно, — подтвердила она, очевидно, только для Авдея и Сергея. — Расскажи, Тиша, не сердись. Знаешь, поди, как я тебя люблю. Хочешь, обниму?
— Нет уж, голубушка, ты лучше отодвинься от меня подале. Так-то оно будет безопаснее. Мне моя голова дороже твоей любви, — Тишка покосился на Авдея, — у него вон какие лапищи-то. Подкараулит где за углом, поднесет разок — и нету Тимофея Непряхина.
— Будя уж прибедняться. В войну-то шустрый и храбрый был…
— В войну я и воевал один с вами, бабами. Кого мне было бояться!
— Ладно. Погоняй и рассказывай про Федченкова.
Тишка тронул быков, заменил самокрутку новой цигаркой, пристроил ее на толстой своей нижней губе, затянулся поглубже, не спеша выпустил кольцо за кольцом дым не через две, а только через одну ноздрю (так мог делать один он на селе) и лишь потом начал, поглядывая украдкой почему-то на Сергея:
— «Андрей, — говорю, — Федорович, душа человек, войди в наше положение. В бригаде три трактора, и все обезножели без запасных частей. Я ведь, — говорю, — знаю, сколько колхозов вы за короткий срок своего директорства выручили из беды, на ноги поставили. Вы ни дня, ни ночи не имеете отдыха, ни себе, ни вашим рабочим не даете спокою, мотаетесь то по району, то в область, до Москвы аж добираетесь, а достаете эти запчасти. Без вас бы мы и посевную, и уборочную — все как есть провалили, оставили бы страну без куска хлеба. И только благодаря вам…» Тут Федчёнков не утерпел, одернул меня. «Ты — говорит, — товарищ Непряхин, мне зубы не заговаривай, они у меня все здоровые, не пой мне твоих райских песен, не трать попусту красивых слов. Говори’лучше, что ты от меня хочешь!..» И что бы вы думали? Унял я себя? — Тишка интригующе примолк, оглядывая попутчиков. Не, рассчитывая, конечно, на их ответ, быстро и воодушевленно заговорил снова: — Как бы не так! Ежли уж я что начал, меня не остановишь. А потом я знаю не хуже других: это ведь только на словах начальники уверяют, что не любят, не уважают подхалимов, но не отыскалось еще среди них и одного, которому не нравилось бы слушать хороших речей в свой адрес!
— А ты, Тимофей Егорыч, оказывается, психолог, — сказал Сергей.
— Это что, врач? Куда мне! Приучил меня пастух
Тихан Зотыч в войну молодых бычков легчать — это верно, но до ветеринара, до врача то есть, мне далековато. Мозгов не хватает.
— А на подхалимаж, знать, хватило.
— Опять ты за свое, Фенька! Поглядел бы, какие слова ты бы сказывала в мэтээсе, ежели оставалась бы бригадиром. А то свалила все на Тишку. Какое кому дело до того, что я там заливал Федченкову! Важно то, что железки, как ты назвала их неуважительно, лежат в моей фуре, и завтра же, глядишь, две, а то, может, и все три мои машины воскреснут и будут подымать зябь… Ну, хватит об этом, тебя ведь, Федосья, не переговоришь. На то ты Леонтьевна. Вся в батьку угодила, тот любого в бараний рог согнет.
— Это кого же он согнул? — ощетинилась вдруг Феня. — Не тебя ли?
— Я не в том смысле. Ишь взъярилась — из глаз искры аж сыпятся!.. Упрямый твой отец, вот о чем моя речь. Завсегда на своем поставит.
— С такими, Тишенька, как ты да твой приятель Пишка, иначе и нельзя. Вы на шею сядете.
— На шее твоего родителя, Федосья, таких, как я, десяток угнездятся и ничего — не сломают. Она ведь у него как у Солдата Бесхвостова, прямо сказать — бычачья у него шея. И чем вы только с матерью его харчите?
— Он у нас главный работник, как же его не кормить! А шея у него как у всех нормальных людей — обыкновенная. Ты со. своей, Тиша, сравниваешь, да разве у тебя шея — хвост бычий, а не шея!
— Это ты правду сказала, — согласился быстро Тишка и обхватил свою шеенку так, что копчики большого и среднего пальцев левой его руки сомкнулись у затылка, — Моя Антонина, знать, на мне экономит еду. Сама, матушка, раздобрела, с похмелья не обойдешь, и с чего ее только так разносит, ума не приложу!
— Это после родов, — пояснила Феня, — у женщин такое бывает. Ты ведь, козел вонючий, и года не даешь ен передохнуть, и куда только плодишь!
— Вижу, Федосья, что ты человек негосударственный, иначе бы так глупо не рассуждала. Правду, знать, говорят люди: у бабы волос длинный, а ум короткий. Ежели б ты умела думать, то вспомнила бы, сколько мужиков мы потеряли на войне. Ты что же, милушка, считаешь, что опосля войны нам солдаты не надобны будут?
— Да вы-то ведь со своей Антониной не солдат, не мужиков на свет производите, а сплошь одних девчат, а в Завидове и без них нами, бабами, хоть пруд пруди. Деремся из-за вас, паршивых, аж клочья от нас летят!