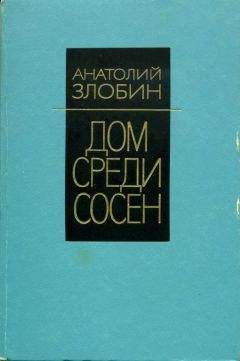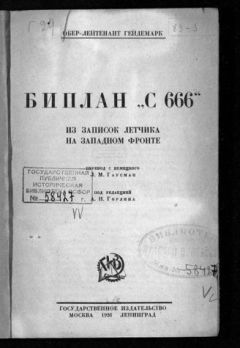Командующий достал бинокль. Дорога была пустынной и вдалеке делалась неразличимой, сливаясь с ровной ледяной поверхностью.
— Когда была отправлена радиограмма? — спросил Игорь Владимирович.
— Полтора часа назад, — ответил Славин.
— Что вы посоветуете?
— Надо ехать туда, Игорь Владимирович. И тотчас: скоро стемнеет.
— Вы правы. Радиограмма очень неясная. В ней больше эмоций, чем фактов. Следует выяснить обстановку на месте. Я пошлю Евгения.
— Игорь Владимирович, он там не был и может ошибиться. Разрешите мне. Я своими глазами...
— Но ваша рука?
— Рука в гипсе. С ней ничего не случится.
— Я восхищен вашим мужеством, полковник.
— Я служу Родине, товарищ генерал. — Славин поправил перевязь и решительно зашагал к саням.
Аэросани медленно оторвались от берега, выруливая к дороге. Длинный снежный хвост стлался за винтом. Гул моторов скоро затих, и одинокая темная точка затерялась в ледяном пространстве.
Войска армии продолжали наступление. Головной полк сто семьдесят пятой дивизии развернулся и прошел через боевые порядки первого эшелона. Солдаты бежали по глубокому снегу, работала артиллерия, самолеты штурмовали опорные пункты врага, по дорогам двигались тягачи с пушками, машины, обозы, походные кухни. Десятки радиостанций вызывали штаб командующего, сообщая, докладывая, ожидая и требуя дальнейших распоряжений, а Игорь Владимирович по-прежнему стоял на берегу.
Приоткрыв дверь сарая, старшина Кашаров тайком наблюдал за генералом. Мешок все еще был в руках старшины, Кашаров прижал мешок к животу, присел на ящик с минами. Рядом стояли два термоса с водкой.
Кашаров развязал мешок, начал осторожно перебирать треугольные конверты. Полевая почта 03339, Войновскому Ю. С. — из города Горького. Севастьянову — из Ленинграда, Кудрявчикову — из Канска, Шмелеву — из Челябинска.
Старшина растерянно повертел треугольник, покачал головой, сунул письмо поглубже в мешок. Потом открыл термос, зачерпнул оттуда котелком и начал пить, не отрываясь, все выше запрокидывая голову. Он пил сразу за всех.
...Письмо лежало в темноте мешка, тесно склеившись с другими письмами. И если развернуть треугольник, разгладить мятую бумагу, то можно прочесть:
«Иду, и вдруг — ты. Я бросаюсь навстречу, удивлена, растеряна: как, откуда? Ты равнодушен, холоден, безразличен, проходишь мимо по нашему скверику к Красным воротам. Я догоняю, кричу в ужасе — ты меня не узнал!.. Третью ночь подряд мне снится один и тот же сон. Гоню его, хочу забыть, но он приходит снова, и я просыпаюсь в страхе. Я лежу одна, ложусь, не раздеваясь — мне холодно и страшно: ты меня не узнал.
Но ведь этого не может быть. А вдруг? Почему ты не слышишь меня? Мы уехали из Москвы осенью, сутолока была страшная, потом узнали, что дом разбомбило. Доехали до Урала, уже снег лежал, луна висела, большая и яркая, как талант. Какая дура я тогда была — все верила, что скоро тебя найду, ты же в кадровой служил... Адресат не значится. Но я все равно пишу тебе, пишу каждый день — на бумаге или просто так. Где ты? Сколько бы слов тебе написала, наших слов — а вдруг чужой прочтет, боюсь. Помнишь — сначала поезд, там парень пел под гитару, а потом лес и сосны, а потом я купила маме билет в кино, и мы пошли к нам — помнишь, как было?
Мама теперь постарела, работает в управлении машинисткой, она и приносит адреса, все время разные. Я тоже старая стала, но я не хочу стареть без тебя, хочу состариться вместе с тобой, буду древней старушенцией, кругом внуки, и старик рядом в кресле сидит — ты. Смотри у меня, сиди смирно. А то ведь я тоже могу не узнать. Вот была смешная история — умереть можно. К маме полковник ходил, Иван Николаевич. Седой такой, интеллектуальный. Жену потерял на фронте во время отступления, остался один — и к нам ходит, свертки носит. Мы его очень жалели, мама даже по ночам плакала. А вечерами сидим, чай пьем с печеньем и колбасой, о мировых событиях рассуждаем. Ты когда-нибудь ел такую вкусную колбасу? Называется — любительская. И вдруг, представь себе, выясняется — ты не поверишь, — что он вовсе не к маме ходил, а из-за меня. Предлагает руку и сердце. И что самое главное — через маму, чтобы официально. Мне так стыдно стало. Сидим теперь без печенья и о мировых проблемах помалкиваем. Помнишь, как мы на лавке под окном рассуждали — вот дураки... Я, как сейчас, все помню, будто вчера, но, боже мой, как давно это было. Давным-давно, я тогда еще умела смеяться. А теперь как вспомню, так сердце зайдется и плакать хочется. Что же мне делать — скажи. Как тебя найти? Если бы я про тебя знала, тогда мне все нипочем, а так руки опускаются, только работа и держит. С завода я сбежала: там снаряды делают, смотреть на них не могу. Перешла на ткацкую фабрику — тут спокойнее. А зачем, если тебя нет и жить не хочется.
Вот опять. Опять в груди кольнуло. Нет, нет, я не верю. Знаю, тебя не убьют. Иду по улице — и все тебя ищу. В городе военных полно, куют победу. Я даже в госпиталь попросилась на субботник. Как-то пошли с Руфиной на танцы в Дом офицеров. Глаза бы мои не смотрели: кругом война, а они танцуют. А если завтра конец света, если бомбу такую изобретут, — нам тот полковник рассказывал, — неужто все равно танцевать будут?
На каток тоже не хожу. Коньки на картошку поменяла еще в прошлом году. Но ты не думай, что мне плохо. Только внутри все время холодно. Сидим с мамой у керосинки и воображаем, будто это камин, будто нам тепло и совсем нет копоти. Нет, нет, мне совсем не плохо, только вот сегодня расклеилась, как сердце кольнуло...
Когда же я снова найду тебя? Любимый...»
Кашаров кончил пить и бросил котелок на землю. Глаза у него сделались мутными, ему показалось, что рядом с командующим на берегу стоит кто-то еще. Старшина Кашаров зажмурил глаза и заплакал.
Пресс-конференция задерживалась.
Корреспонденты, приехавшие в штаб армии, разместились в той самой избе, где жили когда-то солдаты из взвода Войновского. В избе пахло свежевыскобленными досками и крепким морским табаком: столичный писатель из маститых угощал собратьев по перу из круглой жестяной банки.
Кроме маститого писателя, присутствовали три поэта, два фотокорреспондента и еще один писатель, молодой, но уже порядком известный. Поэты были трех рангов: фронтовой, армейский и дивизионный. Фронтовой поэт, пожилой и солидный, сознавал свое явное превосходство над двумя остальными и вел себя соответственно этому. Армейский поэт среднего ранга и возраста. Он только начинал приобретать некоторую солидность, был говорливым и порывистым. Дивизионный поэт совсем мальчишка, и его никто не замечал.
Разговор перескакивал с предмета на предмет, как бывает, когда собираются вместе малознакомые люди; тем не менее маститый писатель с хорошим табаком был в центре внимания: он написал несколько толстых посредственных книг, и оттого его мысли считались значительными и интересными. Лишь один молодой, но уже порядком известный писатель не принимал участия в общем разговоре — сидел на лавке у окна и быстро писал в блокноте.
— Эти русские деревни без крестьян производят гнетущее впечатление, — говорил маститый писатель.
— Неизвестно что: деревня без крестьян или крестьяне без деревни, — возразил молодой дивизионный поэт; он был мальчишкой и всем возражал.
— Чуть ли не единственная деревня на сотни километров кругом, — прибавил порывистый армейский поэт.
— Вы не поняли меня, молодые люди. Видно, старость приходит, а простоты по-прежнему не хватает. Я хотел сказать, что за эти трагические годы мы, наверное, безвозвратно привыкли к смерти, к развалинам, пепелищам. Привыкли настолько, что вид уцелевшей деревни кажется удивительным и необыкновенным. И тем более тяжко видеть единственную целую деревню без крестьян, без всех этих атрибутов сельской жизни. Помните — крики петухов, стадо бредет мимо окон, а бабка Матрена судачит на завалинке, только семечки трещат. А здесь все это выглядело еще романтичней: сушатся на кольях рыбачьи сети, у берега качаются баркасы, помнится, в этих краях их зовут — сойма. А по вечерам невесты, жены выходят на берег и ждут своих добытчиков.
— Тут пахнет русской стариной и поэзией Блока, — сказал говорливый армейский поэт. — Здесь Садко нашел свою Чернаву. Здесь женщины с лицами как на иконах.
— Хорошо бы после войны приехать сюда на рыбалку, — заметил молчавший до сих пор фронтовой поэт. — Пожить здесь, походить с рыбаками в озеро. Летом, наверное, здесь отменно.
— Где там, — возразил поэт-мальчишка из дивизии, который всем возражал. — Летом здесь одни комары и болота.
— Не без того, — согласился фронтовой поэт. — Рыбалка требует жертв.
— Видно, придется ночевать здесь, — сказал один из фотокорреспондентов. — Интересно, где тут столовка?