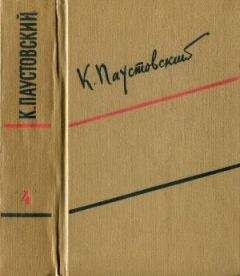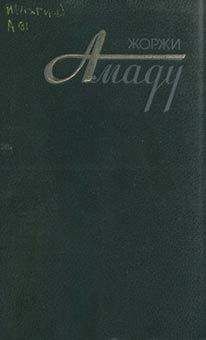Крыс дико захохотал, потому что первый раз в жизни он услышал эту фразу без страшных слов «может быть».
Одесса, 1922
I
– Двадцать третий, – прохрипел надсмотрщик и мигнул распухшим глазом. – Двадцать третий прилип к этой проклятой каучуковой земле.
– А остальные?
– Остальные режут. Сок течет. Москиты жалят, и подушки из песка промокли от пота. Ничего! Компания будет довольна.
– Вы пессимист, Томми, – сказал капитан речного парохода, но подумал о том, что Томми не пессимист, а дурак. – Выпейте лучше виски и смените белье: скоро закат. Иначе вы тоже прилипнете.
Надсмотрщик посмотрел на реку. В первобытном пару дымились леса и воспаленное разбухшее солнце.
– Хорош апельсинчик, – пробормотал – он. – Это не климат, а прачечная. Все мое тело промокло насквозь. Мои легкие, как выстиранная штанина, прилипают к ребрам.
– Жалкая европейская болтовня, – бросил в сторону инженер и закурил трубку. – Конечно, вас жаль, Томми, но вы отлично знали, на что шли.
– Стоп! – крикнул надсмотрщик. – Стоп! Вы больше европеец, чем я. Я родился в Египте, а вы – в Москве. Это бесплодный разговор, сэр. Надо понимать.
Инженер встал и, тяжело волоча краги, путаясь в траве, поднялся на вышку, где приходилось спать по ночам, спасаясь от москитов и лихорадки.
Внезапно упала ночь, скользкая, как шкура бегемота, тяжелая ночь, с избытком заполненная нервными снами.
Ртутным блеском, глазами трупа светилась река. Инженер закурил и лег на спину, глядя на небо, опрокинутое над экваториальными лесами.
«Амазонка, – подумал он вяло и сбивчиво. – Калоши „Треугольник“ и самые прочные шины для „фордов“. Детские соски. С гор, из какой-то республики Венецуэлы, ползет туман и такой запах, будто бы это не республика, а нью-йоркская аптека».
И его, как дрожь лихорадки, пронизала тоска по Европе.
– У него моча уже кровяного цвета, – просвистел зловонным шепотом Томми на ухо капитану и повел белками на инженера.
– Через два дня он прилипнет. Рабочие разбегутся. Что тогда?
– Вы сосунок, – капитан сухо засмеялся. – Куда разбегутся? Пешком до океана столько миль, что их хватит на остаток всей вашей жизни. За день они прорубят в лесах не больше мили. Лихорадка хлопнет их раньше, чем они вылезут на сухое место. Не болтайте чепуху.
– Что же делать?
– Ждать, пока придет новая партия.
– Незаконнорожденные! – проскрипел зубами Томми и замолк.
Утром инженер долго сидел в каюте капитана над картой Бразилии.
– Санто-Марко, – несколько раз повторил он задумчиво и подчеркнул на карте черенком трубки черный кружок – Санто-Марко. Оттуда раз в две недели идут пароходы в Шербург, в Европу. Значит, десять дней до устья, четыре дня до Санто-Марко, шесть дней ждать, две недели через океан и десять дней до Одессы. Сейчас январь. В половине марта я буду дома.
В груди у него тупым барабанным боем заколотилось сердце.
Он перевернул листки настольного календаря на столе у капитана и на «15 марта», жирно написал красным карандашом:
«Я в Одессе, в России, и плюю на амазонский каучук».
Потом подумал и приписал:
«Будь трижды проклята Бразилия и вы, колониальные собаки! К дьяволу ваши соски и калоши».
Он нетвердо вышел на палубу, дымившуюся от пара. Река блестела, как слюда. В безмолвии и великолепии лесов сторожила его шаги лихорадка в испарине, жажде, в своем изумительном и потрясающем бесплодии.
«Лихорадка – это выкидыш воли, – вспомнились ему слова чудака-капитана. – Лихорадка – это „скэб“, проказа, черная кровь, змеиный яд в мозговых бороздах».
Пустыми глазами он долго смотрел на раздавленные зноем бараки фактории. Он знал, что делать.
Их было еще довольно много. Они резали каучук, – вот все, что знали о них капитан Гарт и инженер Миронов. Знали они только Томми – «босса» (надсмотрщика) и «траурного Вильямса», негра с оторванной мочкой у правого уха – Вильямса-молчаливого.
Инженер знал, что делать. Надо бежать. Надо подняться со шлюпки на пароход перед рассветом, а утром капитан Гарт, который охотно выдаст его за сумасшедшего, снимется с якоря, и об этом не будет знать ни одна живая душа в фактории.
Гарт всегда бесстрастен, молчалив и не привык удивляться. Гарт – амазонский речник, но ходил в Нью-Орлеан, возил нефть из Тампико на Антиллы, много видел странных и тяжелых историй и готов оправдать даже профессионального убийцу.
Он ценил только три вещи в мире: табак, безмолвие великих рек и парадоксальный образ своих мыслей, доставлявших ему величайшее наслаждение.
Гарт был одинок. Когда-то в Рио, в кафе, он встретил норвежку с зелеными глазами. Но это было давно. С тех пор он ушел в плаванье по этим местам, в удушливый банный сон смертоносных зарослей и рек. По ним он первый прокладывал пути на своей «Минетозе», пугая стаи горластых зеленых попугаев. Он открывал новые каучуковые леса и сутками лежал в своей каюте, зевая от скуки и равнодушия.
Вечером инженер пошел к рабочим. В зарослях горел костер, отгонявший москитов. Синим стеклом затопила леса торжественная ночь.
Дрожали усталые веки, и вздрагивала черная река, нехотя баюкая острые зерна звезд.
«Все-таки жаль, немного жаль», – подумал инженер, всматриваясь в яркое белое пятно – рубаху Вильямса-молчаливого.
– Вильямс! – крикнул он глуховатому негру. – Как партия?
– Понемногу издыхает, сэр, – ответил устало Вильямс и не поднял глаз (он латал синие выцветшие штаны). – Партия волнуется, сэр, и хочет с вами потолковать.
– О чем толковать?
Вильямс подумал, откусил нитку прокуренными зубами и ответил:
– Этот проклятый ливерпулец сбежал. Он нарушил контракт. Он украл у босса из походной аптеки чуть ли не четверть кило хинина и ушел в лес. Говорят, он пошел вдоль реки.
– Ну и что же?
– Пропадет, ясно, – проронил Вильямс. – Но партия волнуется. Надо потолковать.
– Ладно. Чтобы через полчаса все были здесь, – сказал инженер. – Созови партию.
– Хорошо, сэр. Вот я еще об этом, о ливерпульце… Хинин ему не поможет. У него уже моча с кровью. Многие видели.
Инженер вспомнил на своем белье бледно-кровавые пятна. Он не мог выговорить ни слова, быстро обернулся, выхватил браунинг и выстрелил в облезлую ручную обезьяну, вычесывавшую блох около костра.
– Так недолго ухлопать и людей, сэр, – вяло сказал «траурный Вильямс» и отложил в сторону штаны. – Недолго ухлопать и себя, сэр.
– К черту в зубы! – пробормотал инженер и, шатаясь, пошел к вышке. Ноги у него дрожали, волосы слиплись, внезапно запахли уксусом, и в голове океанским прибоем шумела хина.
– В чем дело? – хрипло крикнул он через полчаса, глядя на ненавистное, мокрое лицо босса.
Рабочие слушали его молча.
– В чем дело? Ливерпулец показал нам пример, теперь наша очередь. Я – инженер компании, но я не хочу менять свою жизнь на тысячу спринцовок. Пусть компания навербует себе две сотни новых дегенератов, они будут резать каучук и издыхать от лихорадки, высунув вспухшие языки. С нас хватит.
– Он большевик! – шепотом просвистел босс и толкнул капитана. – Вы поняли, к чему он ведет?
– Пустяки, Томми, – ответил капитан и отодвинулся подальше. – Это лихорадка. Он уже прилипает. Еще трое суток, и никакая сила не оторвет его от земли.
– Чего же вы хотите? – крикнул из задних рядов Джек-одноглазый.
– Идти за ливерпульцем, – ответил от костра чей-то насмешливый голос. – Чтобы подохнуть в лесах.
– Попугаи откричат по нас веселенькую панихиду, – проронил Вильямс и взглянул на босса. Было ясно, что необходимо вмешаться.
– Сэр, – осторожно сказал босс, сделал шаг вперед и тотчас же отступил. – Сэр, вы – представитель компании. Не хотите ли вы предложить рабочим нарушить контракт?
– Именно, – ответил инженер и провел ладонью по побелевшему от слабости лбу. – Именно. Что касается меня, то я нарушу его сегодня же ночью. Я плюю на вашу компанию! Мне жизнь дороже контрактов.
– Так не годится, сэр! – крикнул босс и тотчас же отскочил в тень.
Инженер не спеша вынул браунинг и приложил его плашмя к пылающим щекам.
– Будьте благоразумны, – сказал капитан, не двигаясь с места. – Не позволяйте лихорадке хватать вас, иначе вы не продержитесь и пяти дней. Спрячьте револьвер, вам сейчас дадут виски. Джек, дайте ему стакан, не бойтесь. Так! Теперь легче? Хорошо. Слушайте дальше! Вас осталось семьдесят человек. Что вы думаете делать?
– Жить, – сказал инженер, и по его воспаленной щеке поползла слеза.
Босс кивнул головой.
– Жить, – сказал он и удовлетворенно ухмыльнулся. – У него горячка: то бежать, то жить. Хорошенькие штучки!