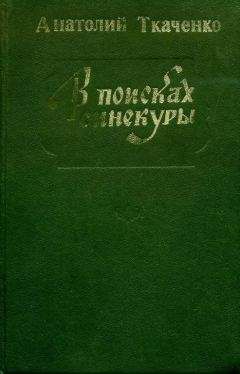Выкурив мошкару, наглухо задернув полы туристской палатки замком-молнией, Корин и Дима Хоробов влезли в спальные мешки: ночи все-таки были прохладные. Поворочались, затихли, собираясь сразу уснуть. Но всего лишь забылись на несколько минут и разом очнулись, услышав глухой, вроде бы подземный, с отдаленным, устрашающим эхом взрыв.
— Руленков р-работает, — сказал, довольно пророкотав, Дима.
— Так бы все т-трудились, — чуть поддразнил его Корин.
— Ну, Мартыненко не хуже, так сказать, вкалывает.
— Вояка. У него — бойцы, хоть и гражданские. Ляпин со своими добровольцами крепко, стоит. И — все, дорогой отважный пилот Хоробов.
— Согласен, товарищ начальник, «туристы» — стихийная масса. Разбредаются.
— Кто орет, кто работает, кто вид делает... Вчера на участке Руленкова... Взорвали ребята метров сто пятьдесят, надо быстро подчищать, отжиг пускать. Вижу, человек восемь — десять копошатся понемногу. «Где старший», — спрашиваю. Показали за ручей в кусты, мол, проветриваются. Пошел искать. А там в тенистых местечках парочки приютились, кто обнявшись, кто пока еще скромно... Нашел старшего, этакого боровка с первой проседью, лежит после усиленной мужской р-работы рядом с девицей мутноглазой, толстой, с искусанными мошкой голыми ногами. Фляжка валяется пустая, коньячком пахнет. «Встать», — крикнул. Думаешь, вскочили?.. Мужик, правда, промолчал, а девица возмутилась: «Ходят тут всякие, подглядывают!» Будто я в ее спальню ворвался. Да как-то и в самом деле стыдно, противно стало...
— И куда вы их?
— Пешком в лагерь — и чтобы улетели, улетучились.
— Фамилии-то записали?
— Зачем, Дима?
— Ага, понимаю. Вы сейчас это «зачем» так сказали, что я понял, точно от вас интуицией передалось: зачем наказывать? Если есть чуть-чуть совести, сами себя накажут. А всякое другое часто... как это сказать, озлобляет, что ли. Так?
— Да, надо человека доверить человеку. Больше. Если человек ведет себя прилично потому только, что боится наказаний, — это не человек. А пожары, Дима, нужно тушить водой с воздуха, это доказано, и выливать не полтора-два кубометра, а десятки. Вода в тайге всегда найдется. Но пока не получается: нет спецоборудования, мало тех же «летающих танкеров».
— Я догадывался, теперь буду знать, спасибо.
Они затихли, понимая, что пора спать, но Дима, посопев, повздыхав, вновь заговорил, чувствуя: не спится и Корину.
— Станислав Ефремович, можно кое о чем спросить... о вашем личном?
Корин промолчал, и Дима принял это за согласие, пусть сдержанное, неохотное. Да ведь его начальник впервые сегодня и разговорился хоть как-то; потом может накрепко замкнуться, выдавливая сквозь сухие, напряженно стиснутые губы лишь нужные для дела, работы слова.
— Вы после того случая, когда погибли ваши жена и сын, стали этим... как себя называете, «спецбедом»? Извините, если очень больное задел. Да вот летаем вместе... Вы для меня первый из нелетунов, с кем бы я куда угодно полетел или пешком пошел. Честно.
— Все, Дима, вроде само собой... — Голос Корина был неожиданно свеж, он словно ожидал этого вопроса от своего молодого друга. — Первое бедствие я пережил ребенком, лет пять-шесть мне было. Горел наш дом... Сколько я видел потом, тушил пожаров, но до сих пор снится мне тот: черно-кровавое пламя, скелетом оголенные стропила, растерянный отец, дико воющая мать, беспомощные, суетливые люди... А в пятьдесят третьем, когда я служил на Курилах, северный остров Парамушир волной цунами накрыло. Нас, пограничников, на спасение перебросили. Да кого и что было спасать? Городок Северо-Курильск будто какое-то гигантское морское животное языком слизнуло. На рассвете, когда люди спали... Что там дощатые домишки японской постройки — танки смыло, суда в бухте сперва бросило на берег, а потом водоворотом перекорежило, унесло. Лишь на сопке осталось несколько строеньиц да кое-где телеграфные столбы; верхушка одного, так и вижу посейчас, накрыта рваным полосатым матрацем... И земля на месте города... Я сказал: как языком слизнуло. Нет, неточно. Содрало когтистой лапой — до глины, до скалы. Помнится, командир кричит: «Корин! Корин!..» — а я стою в отупении и не могу понять, куда подевался город, люди... С того времени всю службу и после, когда учился в политехническом, все думал, говорил себе: стихию надо понять. Стихию в человеке, стихию вне человека.
— Понятно, Станислав Ефремович. Вот еще о чем хочу спросить: теперь все про экологию говорим, которую, так сказать, совместными техническими успехами нарушили. Но ведь она, экология, вроде бушевать, возмущаться начинает?
— Мы это видим, ощущаем, Дима.
— Меня Вера просвещает. Вот, говорит, послушай. Пожары когда-то были полезны лесам — обновляли, омоложали их. А загорались леса от молний. Как она научно выразилась, средний оборот огня составлял пятьдесят — сто лет, и за это время лес успевал подняться. Но пришел человек добывать «хлеб культуры», иные продукты цивилизации. Лес стал загораться от спички, костра, папиросы, искры паровоза и даже брошенной бутылки: сфокусирует солнечные лучи в жаркий день — загорелся сухой подстил... И выходит — пришел, увидел, победил, но не торопись победе радоваться: она — пиррова. Даже такое придумала: «пиррова служба» — все эти лесоохраны, водоохраны, звероохраны...
— Молодец, Вера! Небось ухаживаешь, Дима? Как успехи?
— Никак. Она вас любит.
Сказав это, Дима осекся, притих. Удивленно, вроде чуть досадливо хмыкнув, замолчал и Корин.
Неохотно, как-то напряженно-тревожно засыпал лагерь; утробно, зловеще ухал филин неподалеку, и ветер сухими, скрипучими всполохами будоражил вершины лиственниц, вихорками закручивал мусор у палаток. Исчез, опал в чащобник гнус.
— Плохо, — сказал Корин.
— Согласен, Станислав Ефремович, для вас неожиданно. Но — точно. Из-за вас и напросилась сюда. Я — что, я, конечно, ухлестнул, да скоро понял: тут мне не светит...
— Ветер, Дима.
— У Веры? Нет, Станислав Ефремович, выветрился. Я злободневную проблему эмансипе так понимаю: не стало мужчин, настоящих то есть. Вот слабая половина и бунтует, так сказать, от излишка раскрепощенных сил. Но вот что интересно: попадется девушке, женщине мужчина, понимаете, по существу, а не по внешности, — и никакого антагонизма, литературно выражаясь. Лад и согласие. Женщина не власти — любви хочет. Может, и преклонения, как еще в недавние старые времена. Одним словом, Станислав Ефремович, раз вы мне разрешили говорить, Вера увидела мужчину. И еще тогда, на Урдане...
— Я не о том. Ветер поднимается. Нехороший ветер.
Вблизи скрипели сухие ветви берез и лиственниц, вдали приглушенно гудела тайга, и слышались в этом гудении вроде бы взревывания пламени. Дима поежился, поняв беспокойство Корина, но все-таки обиделся на него: так умно, кстати, казалось ему, он высказал своему начальнику то, о чем или молчать надо, или говорить с великим умением, а «спецбед» даже в эти, может решающие для его судьбы, минуты занят делом — горящей тайгой. Он что, помешался на стихийных бедствиях? А ведь сам сказал: стихию надо понять сперва в человеке. И Дима упрямо, не скрывая обиды, проговорил:
— Мне что — я правду.
Корин на ощупь раскрутил трубку, овеял дымком пахучего табака воздух палатки и вдруг, как бы для себя, но с явным смущением рассмеялся. Дима отвернулся, натягивая на голову капюшон спального мешка, и тут услышал внятно выговоренные Кориным слова:
— Видел, догадывался вроде. Да замечать не хотел. Теперь ясно: «очаг загорания». Не опасный, думаю. Поразмыслим, примем разумные меры, мой друг Дима.
1
Опорно-защитную полосу протянуть успели, пустили отжиг по всему фронту от реки до марей и озер. И было время, были полных шесть суток, когда люди, сотни людей, окарауливая пожарище, захлестывая очажки огня проволочными метлами, просто еловыми ветками, забрасывая вскопанным сырым грунтом, заливая водой из ранцевых опрыскивателей, дружно верили: огонь побежден. Хоть и тонуло Святое урочище в знойном дыму и суховейный ветер бушевал на всем пространстве межгорья.
Корин несколько раз облетел урочище, не отрываясь от бинокля, до слезной рези в глазах оглядывал каждый дымок, курение, коптение, проверяя, высматривая защитную полосу, а главное — нет ли загораний позади нее. Наконец он приказал пилоту Диме лететь в лагерь: знал, чувствовал, жестко понимал — пора докладывать председателю комиссии.
Войдя в штабную палатку и не застав радистку Веру, он с неким облегчением присел на кругляк у стола: можно додумать, найти более подходящие слова, чтобы точнее обрисовать обстановку, реальную, без особых сомнений, но и не высказать боевитой уверенности. По опыту, ставшему интуицией, нутром «спецбеда» он знал: такое пожарище надо окарауливать неделями, а вернее — до осенних дождей, холодов.
Звенела эфиром, потрескивала разрядами дальних сухих гроз включенная рация. В любое мгновение могли послышаться позывные: «Отряд! Отряд!..» Корин встал, подошел к рации. Справа от нее, на ящике, застеленном цветной пленкой, аккуратно расставлены коробочки, пузырьки. Это, понял он, туалетный столик Веры Евсеевой, почему-то ранее не примеченный им. Корин взял рекламный листок парфюмерного набора «Селена», прочитал: