Женщина продолжала бежать. Ей было очень страшно. Никогда Нина не выходила в такую ночь одна. Но сегодня вечером к ней заглянул Чижиков. Он, как всегда, был приветлив и спокоен.
— Миша после суда сразу на службу пошел. Меня попросил предупредить вас, Нина Андреевна, чтобы вы не волновались. Кстати, я уже предостерегал Мишу, говорил ему, чтобы он возвращался домой не по Пушкинской улице. Напомнил я ему и после суда об этом. И вы, пожалуйста, тоже скажите.
— А почему? Ему что-нибудь угрожает? Впрочем, о чем я, глупая, спрашиваю! Конечно, каждый день, каждый час… Для него — граница всюду, где он есть. Значит, и всюду опасность! Спасибо вам, Алексей Глебович! Может, перекусите?
— Спасибо! Жена ждет. Да и потом — яхточка!
— Ну хоть чайку выпейте. Миша для вас, кстати, достал журнал о яхтах. Сейчас, минуточку…
Она пошла к этажерке, где книги на грузинском языке соседствовали с книгами русскими и белорусскими. Отдельно стояли учебники Нины, справочники. Среди книг Чижиков заметил новую книгу Гамсахурдия. Чижиков знал, это один из любимых писателей Кулашвили. «Да, у меня страсть ко всякому изобретательству, а у Миши одна страсть — граница. Она его радость, его горе, его забота, его песня! Граница — его жизнь! Кажется, в этой квартире Миша и не живет, он весь и всегда на службе! Хорошо ли это? Не знаю! Но если он себе иной жизни не мыслит, хорошо, значит, для него это счастье».
— Спасибо за журнал! А моя Аня обещала достать вам выкройку для осеннего платья. Я на днях занесу. Или вы к нам загляните с Мишей.
— С Мишей? С Мишей можно заглянуть только в тайники контрабандистов! Но я люблю его, хотя он пропадает на вокзале. Так чайку, а?
— Нет, иду. О Пушкинской улице скажите ему, когда вернется.
Уходя, он почему-то обернулся с порога. Нина мгновенно опустила глаза. В них блеснула какая-то застенчивая нежность.
— Знаете, Нина, давайте пойдем все вместе в эту субботу в театр.
— Миша не сможет, у него опять будет что-нибудь сверхсрочное. Он опять будет в своем театре — на вокзале.
— Ну зачем так грустно?
— Что ж, конечно грустно. Даже в тот день, когда расписались, он перед самой свадьбой ушел на занятия кружка юных друзей пограничников. У него же нет ни воскресений, ни суббот. У него вся жизнь — рабочий день.
— Он в этом видит счастье, он счастлив, он живет ради этого, Нина. Ведь так?
Алексей вернулся к столу. Посмотрел, как она указательным пальцем водит по краю чашки.
Нина вздохнула еще грустней:
— Он в этом видит счастье, он. Свое счастье. Но ведь мы вдвоем. Всего один раз встретил меня вечером, когда я шла из кружка. Один раз! Я из-за этого и кружок оставила. Одной идти страшно, и просто неловко, если меня — замужнюю женщину — будет провожать молодой человек. Чего только тогда не наговорят. И Мише больно будет это слушать. Да и вот вы, Алеша, — она покраснела, услышав, с какой лаской ее голос произнес это имя, — Алексей, вот вы говорите о счастье. Так мы же вдвоем! Вдвоем! Он же словно в общежитие прибегает, перекусит, соснет и — назад. На вокзал! Худой — плакать хочется. Жалко его. А он меня послушает, улыбнется и опять за свое. А в театр мы — ни разу, на концерт — ни разу. Как-то случайно в кино оказались, так он за пятнадцать минут до окончания сеанса вспомнил о вокзале, тихонечко выскользнул из зала. А дни, месяцы идут… И так, видно, навсегда. Как я завидую Ане! Как ей хорошо с вами! Вы же успеваете и на службе, и яхту строите, и сколько раз бывали и в парке, и в театре, и не пропускаете концертов. Миша ведь иссушает себя. Вот книгу Гамсахурдия я ему купила, а он до двенадцатой страницы дочитал, больше времени не было.
Нина с нескрываемой нежностью посмотрела на Алексея, ей захотелось вдруг припасть головой к его груди и выплакаться.
— Нина, а вы хоть раз говорили Михаилу об этом?
— «Хоть раз!» Сколько раз! Вас в пример ставила с Аней! Он соглашается и опять ничего с собой поделать не может. И так я все время одна. Знаете, как это больно! — Нина помедлила, вздохнула.
— Вы слишком мрачно настроены, Нина. И вы меня идеализируете. Вот мы как-то с Михаилом были у Домина. Это — человек! Если бы вы знали, как он любит природу, как понимает ее! Сколько примет народных ему известно, как он по голосам определяет птиц! Я никогда и не думал, какой он книжник! А музыка? Тоже его увлечение! И он все успевает, хотя дел у него по службе немало…
— Это его жена тогда упала, кто-то ее толкнул? И потом давление крови, гипертония, и вообще плохо ей…
— Да, она уехала. Вы знаете? Он нам на прощанье сказал, будто надеется на ее возвращение, будто бы ей получше. Но, может быть, это он себя так утешает. Я с врачом после этого говорил, он сказал о ней: случай тяжелый. Не все ясно.
— Понимаю, сочувствую. Но мне, кто мне посочувствует? Дело не в моем диабете, не в больном сердце. Я молчу об этом, хотя уколы каждый день делать самой себе не очень большое удовольствие. Но что-то надо менять Мише. А у меня у одной нет сил воздействовать на него. — Она отвернулась и взглянула на изображение прыгающего оленя. — Точно он от меня убегает…
Алексей Глебович давно уже догадывался о неладах в душе Нины, давно и не раз говорил он Михаилу о его ошибках, но никогда он не предполагал меры тоски замужней и словно бы одинокой женщины. Вот отчего он смешался, присел за стол.
Нина, не спрашивая, налила ему чаю, придвинула сахар, конфеты, он машинально помешивал в чашке, хотя не опустил туда ни куска сахару. Алексей поднял глаза, и снова Нина отвела взгляд, спрятав нежность.
— Нет, нет, Нина. Для него его работа — счастье! Миша слишком цельный человек, чтобы он лукавил с самим собой и с вами, характер у каждого неповторимый. Посмотрите, он же весь излучает энергию, улыбку, веру, когда он на службе! Это ли не счастье?! Мне очень далеко до него! Это выдающийся человек!
— Он фанатик!
— Выдающиеся люди — всегда фанатики одной идеи! Этим и сильны!
— Но ведь не вся жизнь — в его службе! Вот вы раскрыты навстречу людям, и всех к вам тянет, и меня… — она прикусила язык, чтобы не проговориться, что и ее, Нину, тянет к Алексею Глебовичу, да нет, к Алексею, к Алеше. — И мне так иногда хочется выйти из дома, когда слышу, как детвора щебечет вокруг вас! Выйти, поговорить, пожаловаться на Мишу.
— Но, Нина, разве можно требовать от человека, чтобы он переменил характер. Каждого нужно принимать таким, каков он есть, или не принимать вовсе. Надо быть снисходительным даже к таким людям, а к Мише особенно…
— Да, да… Вы, наверно, правы…
— А вы знаете, Нина, как он любит вас! Конечно знаете, о чем я и кому говорю! Но меня и его любовь к вам поражает. Он мне как-то сказал: «Нина для меня, как воздух. Ей кажется, будто я ее не замечаю. Но без нее я бы задохнулся!»
— Вот видите, я поговорила с вами, и сразу на душе веселее стало.
— Не во мне дело. Если бы вы видели, как сами на него смотрите, поняли бы, как велико и прочно ваше чувство к нему. А без жертвенности нет любви. Вернее, без жертвенности нет счастья. Отдавая, получаешь куда больше. И, главное, перестаешь быть одиноким.
— Вы бы сказали хоть одно из этих слов Михаилу. Он так вас уважает, так прислушивается к вам.
— Хорошо! — Алексей встал из-за стола. Не раз, не два говорил он эти слова Михаилу. Но надо уметь ждать. Слово подобно зерну. Падает, медленно-медленно дает первые ростки. — Хорошо. При случае. А вы, не ожидая никакого случая, берите Михаила и в первую же свободную минуту приходите к нам в гости. Пирожных и разносолов не обещаем, а чем богаты, тем и рады будем поделиться. Мы с Анечкой ждем вас. И Арсений будет счастлив!
После ухода Алексея Нина никак не могла прийти в себя. Из рук выпала чашка и разбилась. Первая чашка, разбитая ею в семейной жизни. «Плохая примета, — сказала она себе, — может, быть, с Мишей что-нибудь неладное?! Я тут чай распиваю. Я чем-то недовольна, а вдруг он в опасности?! Да, он всегда в опасности! И я знала наперед, какая жизнь нас ждет, знала и пошла на это, — и почему-то сразу вспомнила слова Чижикова о Пушкинской улице. — Предупредить. Когда вернется? А может быть, надо предупредить до того как вернется, ведь дорога-то домой лежит через Пушкинскую. Чижиков не такой человек, чтобы впустую говорить. И ведь он специально, видно, пришел, чтобы сказать о Пушкинской? Чего же я жду?»
Она накинула на голову платок и выбежала на улицу. Ей казалось — за ней гонятся. Оглянуться боялась. «А как я найду его на вокзале? Надо будет к Домину — капитану! Или, может, Контаутаса увижу или Кошбиева? Ой, кто-то за мной идет, бежит! Что это впереди погас фонарь? Я уже на Пушкинской. Вот еще один погас. Как страшно! Еще один! Ой, еще один! Все равно не буду перебегать на ту сторону. Вон там какой-то человек с газетой в руке. Не он ли тогда мне навстречу шел, когда меня догнал Богодухов и цветы подарил? Похоже — он. Как на Мишу похож! Спутать можно! Ой, как сердце колотится!»
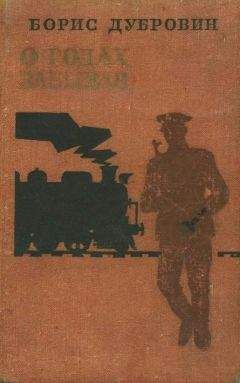

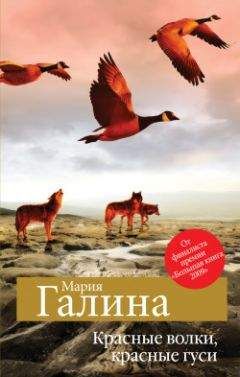
![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)

