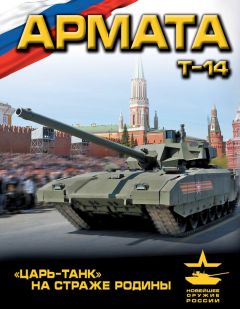Петля за петлей наращивается чулок, петля за петлей вяжется смутное, полузабытое, когда немножко скучно, длинно время, и не ждет ничего ни впереди, ни сзади...
Маленькой девочкой пасла индюшек в степи. Лежит на спине, бегут облака, шевелит ветер траву и волосы, а она гнусаво, нескончаемо тянет все те же слова одной и той же песни.
И теперь, баюкаемая уныло поблескивающим мельканием спиц, монотонно, только для себя, тянет под нос:
Та не-е у-у-ти-и-и-чка-а-а-а в бе-е-ре-е-жку-у-у
За-кря-а-ка-ла-а,
Кра-а-а-сная дивчи-ночька
Тай за-пла-а-ка-а-а-ла-а..
Через три месяца, как она поступила к Захарке, приехал навестить отец. Бабы и девки злорадно рассказали, чем занимается дочь. Мужик покачнулся, как гром грянул, почернел.
— А-а-а!..
И бросился к Захарке.
— Я те, шо ж, на то дал дочь... а-а, шоб надругаться?.. Я те в обучение дал та на работу, а ты во шо...
— А я что, сторож твоей девке? У меня своих, брат, делов по горло; девок караулить, так давно бы разорился.
— Ну, нехай же вона свиту божьего не побаче...
Поймал за косу ее, упиравшуюся, и стал вязать веревкой к оглобле, а кругом уж набрался народ, и слышалось:
— Н-но и пристяжка, ребята...
— Один зад чего стоит, хочь садись...
— Чего же не завожжал?.. Должна кольцом виться, голову на отлете...
— А хвост трубой...
— Го-го... га-га-га...
— Погнал!.. Погнал!.. Ребята, погнал!..
Все побежали вперегонку. А из густого катившегося по дороге облака неслось, удаляясь:
— Ратуйте... добрии люде... вин убье-е...
Домой привез кровавый ком: не было лица, выбиты зубы, и выбежала, вырывая старые волосы, мать.
Через месяц, когда в состоянии была, шатаясь, держаться на ногах, ушла ночью в степь, дотащилась до поселка и пришла в трактир.
Глянул Захарка.
— Без надобности. Кому ты такая нужна!
Месяца два слонялась она по поселку, перебиваясь поденной работой, поторговывая собой. Когда сошли все болячки с лица, Захарка принял. Зубов не хватало, так его кавалеры на этот счет были нетребовательны.
Отец проклял ее и отступился.
Сверкают, как журчащая вода, спицы... Все это было когда-то, так же давно, как когда лежала на спине, и бежали белые облака, и курлыкали возле индюшата, и шевелил ветерок волосы и траву.
Див-чи-и-ночька-а та-а-й за-а-пла-а-а-ка-а-ла-а...
...Сверкают спицы, набегают петли... Подымает голову, и — опять...
Ночью расстелет на полу дерюжку и сладко засыпает под гул и вой глухо волнующегося трактира, под тяжкое дыхание на кровати, засыпает крепким степным сном.
А завтра то же...
Как ни далека была работница мыслями от лежавшей возле туши, это медленное трудное дыхание сливалось с ее песней, с трактирным гулом, с приятной скукой безделья, со смутными воспоминаниями, с монотонным мельканием спиц, и, когда это дыхание прекратилось, работница быстро глянула: лицо отекло, обвисло, тускло глядят полузакрытые глаза...
Перекрестилась.
— Царство небесное...
Вытащила из чулка длинную иглу, почесала в голове и, спрятав работу, пошла к Захару.
— Мабуть, хозяйка померла.
Тот крякнул, повел бровями, как будто неловко лежать.
— Намучилась, сердяга, — и странно заморгал.
После девка рассказывала на кухне:
— Не жилец наш хозяин на сим свити.
— Но ведь он уж сидеть стал. Вот подымется, пропишет тебе.
— Сама своими очами бачила, як вин заплакав. И слезы. Вот шоб мне подавиться зараз на сим мисти, заплакав по-настоящему, слезьми.
...Захар уже мог сидеть, обложенный подушками. То и дело звал к себе старшего приказчика, работника и работниц, отдавал приказания, и сразу в доме почувствовалось напряжение, властная, умелая, строгая хозяйская рука.
— Эй, Дуня, приведи ко мне сы... с... Сергуню...
Девушка привела мальчика. Он робко вошел, шмыгая плохо обметенными от снега валенками, в длиннополом волочащемся полушубке, с красным с мороза носом, но личико было бледно; тонкая желтая шейка, на которой с трудом держалась огромная голова, а на бледном лице всегда огромные, широко открытые, круглые, внимательные глаза. Он жался к Дуняше и недоверчиво и боязливо глядел на деда.
— Ну, ходы, слышь, дид кличе.
Мальчик все так же упирался, не отрывая глаз от деда.
— Сергуня, подь ко мне.
Захар сделал ласковое лицо, и оно у него стало, как у цепного пса, когда он улыбается ушами.
Мальчик все так же испуганно-внимательно кругло глядел и молчал.
— Али не любишь деда?
Ничего не добился Захар, но каждый день приказывал приводить к себе мальчика, а тот стоял, упирался, а когда посмелеет, глядит на деда внимательно большими круглыми глазами. Если дед начинает очень приставать, плачет и забивается к Дуняше.
Раз сказал:
— Боюсь.
— Кого?
— Тебя.
У деда, точно вытянули кнутом, перекосилось лицо.
— Али я тебе худое сделал? Вели в лавке дать тебе полфунта медовых пряников.
Мальчик немного придвинулся и проговорил:
— Борода у тебя бе-елая.
— О?!
Захарка погладил длинно стлавшуюся по груди бороду, — за время болезни она у него отросла и побелела.
— Глазищи вот страшные... волчиные.
— А ты волка видал?
— Нашего Серка видал... Глаза у него мохнатые, а у волка, сказывают, страшней... Снег уже начинает таять.
...Когда Захар стал выходить, все ахнули: был это патриарх с седой бородой, со строгим, исхудалым, иконописным лицом, но в косматых, еще темных бровях прятались те же живые, пытливые глаза.
Снег стал кашей, солнце крепко грело; через улицы трудно переходить, — нога тонет в размякшем черноземе. Небо по-весеннему безоблачно, и ослепительно блестит степь. Кое-где зачернели взлизы на обтаявших курганах. Орут петухи, и отчаянно, точно только что откуда-то вылезли, разоряются воробьи.
Захар ходит теперь спокойно, медленно, с той особенной самоуверенностью, которую дает тяжело перенесенное горе. У станции навстречу — Полынов. Полынов сначала не узнает в этом высоком благообразном, с патриаршей бородой, старике Захара.
Захар снимает картуз, низко кланяется, глядя снизу из-под бровей.
— Почтение Николаю Николаевичу.
И, помолчав, добавляет в спину проходящему и не отвечающему на поклон Полынову:
— Никому не сказывал, не токмо что доносить... будьте благонадежны...
И долго, обернувшись, провожает с непокрытой головой уходящего.
Инженер идет с побелевшим, как полотно, лицом, потом оно наливается, даже уши издали густо краснеют.
«Это невозможно... Сегодня же напишу прокурору все начистоту... Ведь это ж унизительно...» Дни проходят за днями; уже все улицы почернели, жидкие, и тонут в них люди и животные; и степь почернела и радостно парит под все более и более горячим солнцем, мягкая, насыщенная просыпающимся материнством. Тянут в сверкающей выси невидимые птицы, и только крики их, далекие и загадочные, доносятся до земли.
Жгучесть воспоминания встречи с Захаром изглаживалась у Полынова. И, когда приходило на память, морщился брезгливо.
«Всегда успею... Да и, наконец, разве незаслуженно получил он... Большее зло, чем он сделал, трудно представить... В сущности, морально мы квиты...»
А когда встречались, Захар низко кланялся, держа картуз на отлете.
— Не извольте сомневаться и беспокоиться; ни одна душа… Покеда дыхание у меня, ни одна душа... Великое почтение.
И опять чувство унизительной беспокойности заливало краской лицо Полынова, и он шел домой с твердой решимостью сегодня же непременно послать прокурору признание в покушении на убийство.
По непроходимым улицам вдоль заборов, домов, плетней и мазанок уже тропочки пробили, и торопливо начинает зеленеть степь. Зазвенели над ней новые голоса, заскользили по невинной зелени тени весенних облаков, неровными краями меняясь в лощинах и на пригорках. Полынов постепенно забыл о своем решении и, когда встречался с неизменно и низко кланяющимся Захаром, проходил мимо, не обращая внимания: «Черт с ним...»
«Пущай побегает», — думал Захар и шел домой, где ждало огромное хозяйство и надо было направо-налево отдавать приказания, где всегда ждали приезжие люди. На лесном складе визжали пилы кланяющихся на высоких козлах пильщиков; в магазине гомонела толпа баб и мужиков, торговавшихся до изнеможения у прилавков за ситцами, топорами, кожами, пряниками; во дворе стояли фуры с мешками: у Захарки была ссыпка хлеба; рядом с магазином помещался аптекарский склад, и из трактира день и ночь несся бильярдный стук.
В общении с людьми Захар стал другой. У этого высокого, худого старика с большой белой бородой и бледным лицом, казалось, не могло быть иных слов, кроме медленных и спокойных, и все звали его теперь неизменно Захар Касьянычем.
— А так, — говорил Захар мужикам, приехавшим к нему уплатить проценты по векселям, — векселя перепишем. Клал я вам двенадцать процентов казенных да в вексель включал скрытный процент, ан выходило по шестьдесят, по восемьдесят, даже до ста процентов. Теперь все это скидываю, секретную сумму из векселя выключаю, а проценты с нынешнего дня кладу божеские — восемь процентов, и никто не будет обижаться, ни мне, ни вам не обидно.