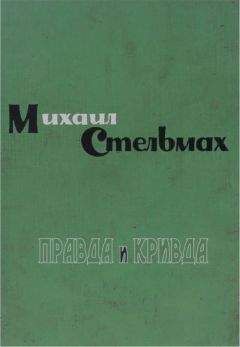— И это еще не факт! — лицо Киселя стало таким многозначительным, будто он еще что-то знал о Марке, но до какого-то времени держал при себе.
Эту противную личину многозначительности и глубокомыслия на лице, которая прикрывала пустоту в голове, Борисенко уже научился распознавать и горячо обрушился на Киселя:
— А что же тогда для вас является фактом? Мерка осторожности, практика подозрения и философия страха? А я хочу видеть своих людей, свою землю без этих мертвенных теней. И чем скорее они покинут нас, тем красивее, тем сильнее, тем дружнее будем мы.
— Это все стихи, декламация и пена на молодом пиве. Это все хорошо для какого-то поэта — начинающего, а не для солидного руководителя, который на обеих полушариях коры головного мозга должен зарубить теоретическую аксиому: чем ближе нам будет до коммунизма, тем большим будет классовое сопротивление… Я не хочу быть пророком, но предостерегаю: береги, Иван Артемович, свою голову, она еще для чего-то пригодится тебе, — с чувством преимущества сказал Кисель. — Иди уже, подвози на машине своего Марка. И гляди, чтобы не ссадил тебя он со временем и с машины, и с коня. Увидишь, как моя теория осуществится на практике.
— И чего вы так накинулись на Бессмертного?.. Родню защищаете?
— Какую родню?
— Ну, Черноволенко. Он же, кажется, ваш сват?
— А ты откуда знаешь? — насторожился Кисель.
— Слышал от людей о его художествах… Так родня он ваша?
— Эт, не в том сила! — помрачнел Кисель, но больше ничего путного не смог сказать.
За городом, оживая, закачались, закружили вечерние поля и их тени. В уютных долинах темнисто серебрились тихие пруды; на них, будто в глубоком сне, срывались птицы, и крылья их реяли и над водой, и в воде. А на холмах, как врезанные в небо, стояли в дремотном ожидании ветряные мельницы, казалось, они вот-вот должны были кого-то встретить и прижать своими ослабевшими руками.
Одинокие тополя и груши, выкупанные в лунном сиянии, трогательно искрились, голубели, туманились и имели ту прекрасную женскую задумчивость, которая сладко и тревожно манит в даль человека, стирает грани между ним и природой. И кто знает, не была ли когда-то девушкой вон та молоденькая, росой обрызганная березка? А может, и выросла она при битой дороге, как память о девушках, которые понесли свои слезы в чужие края?
Задумчиво глядя на березку, Марко вспомнил дочь, вздохнул.
— Нога болит? — Борисенко, ведя машину, строго посмотрел на Бессмертного, и только единственная трепетная морщина в межбровье говорит о сочувствии. Действительно, в зрачки Борисенко, в его голубоватые белки кто-то прямо вогнал такую строгость и сосредоточенность, что за ними не видно было других оттенков. — Может, медленнее ехать?
— Не надо. Отболелось мое.
— Что-то не похоже, чтобы отболелось, — покосился на костыли. — Очень мы во всем терпеливые люди.
— Нам, Иван Артемович, и надо терпеть.
— Почему?
— Если бы все наши боли за одну только эту войну всплеснулись криком, тогда, наверное, не только все люди, но и камни не выдержал бы того вскрика: горы начали бы колотиться на куски.
— Это вроде правильно, — задумчиво согласился Борисенко. — А есть же подлость, которую ничто не может растрогать, ничто: ни чистая красота жизни, ни безграничная любовь, ни безмерная скорбь, ни материнские слезы, ни детское щебетание. Откуда же взялась такая варварская убогость?
— От большого золота, от большого богатства. Они распростерли крылья смерти над людьми. И пока это богатство будет господствовать, до тех пор смерть будет тарахтеть своими костями по земле. Вот какой у нас невеселый разговор в такой вечер.
Марко взглянул на глубокое, с такой звездной пыльцой небо, будто кто-то только что проехал по нему серебряными телегами и поднял или посеял легонький туманец цветений.
— Ну, Марко Трофимович, а вы не сердитесь на меня? — изменил тему разговора Борисенко.
— С чего бы?
— Что, не спросив брода, посватал вас на председателя колхоза?
— От этого сватанья еще далеко до свадьбы, — улыбнулся Марко.
— Однако же не откажетесь от него? — пытливо взглянул на Бессмертного: кто его знает, что он может отчебучить и какие мысли крутятся в этой завзятой голове. — Не откажетесь?
— Отказаться легко, но кому-то же надо браться за тяжелое — за хозяйствование.
— Ого, вы будто хвалиться начинаете? — удивился Борисенко.
— Почему не хвалиться, идя на такую свадьбу: вместо каравая — сразу бери в одну руку двести сорок тысяч долгов, а в другую — треть земли, пролежавшей под перелогом. Есть где разгуляться… Еще сегодня эти грехи висят на Безбородько, а завтра они будут уже моими. И вы первый будете говорить об этом на всех совещаниях и будете ругать меня, будто бы их взлелеял только я.
— И ведь буду! А как же иначе? — изумленно посмотрел на Бессмертного. — Сын, не получивший наследства от отца, все равно называется его наследством.
— Спасибо, утешили таким наследством.
— А вы боитесь?
— Наше, крестьянское, дело всегда боязливое.
— Снова философия?
— Нет, правда. Разве, когда я бросаю сегодня в землю зерно, не дрожу, что будет завтра? Уже с этого часа начинаю бояться суховея и засухи, града и ветра и разной нечисти. Так и несешь все время в груди и большие опасения, и большие надежды.
— Безбородько не это носил в груди. Что скажете о нем?
— Да разве вы его не раскусили? — даже теперь не захотел оговаривать своего соперника.
— Значит, не совсем. Сегодня он раскрылся во всем блеске. И думается мне так: обычный человек имеет в сердце два предсердия и два поджелудочка, а у Безбородько все стало желудочками.
— Много еще есть у нас таких желудочных председателей, и кое-кого они удовлетворяют.
— Ваше «кое-кого» означает Киселя?
— Хотя бы и его, спорить не буду.
— Вы давно успели заесться с ним?
— Как увиделись, так и заелись, — с ходу, можно сказать.
Борисенко не улыбнулся, но лицо его так ожило, будто его изнутри подмывала усмешка.
— Быстро это у вас, Марко Трофимович, делается, очень быстро, по-партизански. Не сошлись характерами?
— И едва ли сойдемся. Так и начнется мое председательство, если вы за дорогу не измените своей задумки, — и присматривается, как далеко в поле работает одинокий, еще невидимый трактор — только подвижная игра света говорит об этом. «Вот что мне сейчас более всего нужно», — думает уже как председатель колхоза.
— Очень вы сегодня рассердились на Киселя?
Бессмертный изучающее посмотрел на Борисенко, неожиданно нашел в его взгляде что-то доброе и печальное. «Видать, не такой ты, человече, грозный, как кажется с первого взгляда».
— Нет, Иван Артемович, может, и сердился бы на Киселя, да честь на себя кладу. Я просто презираю его, весь род и всю родословную его.
— Вон как! У вас даже до родословной дошло!? — Борисенко уменьшил скорость. — За какой же родословный корешок вы ухватились?
— И это скажу, а вы уж подумайте, следует ли меня выбирать председателем, потому что мира с Киселем у нас не будет ни на людях, ни в поле. Когда я вижу настоящего руководителя — у меня раскрывается сердце, когда я встречаюсь с каким-то киселем — сердце мое щемит, как перед болезнью… Когда-нибудь ученые люди или писатели в своих книгах напишут, как село сразу после Октября свято верило каждому начальнику, потому что усматривало в них не обычных людей, а цвет революции. Но со временем начальников с потребностью, как в газетах пишут, роста и без таких потребностей становилось больше и больше, и не все лучшее прибивалось к нашему берегу и прыщами выскакивало на разных должностях и в канцеляриях. Прибились и кисели — не заслугами, не работой, а крученой ловкостью и проходимостью своей. Большого ума им, очевидно, ни родная мать, ни баба-повитуха не положили куда надо, а сами они, кисели, не очень старались на него ни за книгами, ни за работой. А быть же они хотели только на виду, держаться только сверху. Вот, чтобы дольше удержаться, и начали они не сходиться, а расходиться с людьми, стращать их, раскидываться их годами, их судьбой. Это вышло у киселей, это понравилось им, и они уже не говорят с людьми, а вправляют им мозги, снимают с них стружку, пропесочивают их и все что-то пришивают. Кисели даже успели уверовать, что не любовь, а их угрозы выращивают идеи в голове и хлеб на полях. А на самом деле вырастили они больше человеческих трагедий, чем их должно быть на земле. За это киселей прилюдно надо, ну, хотя бы со всех должностей снимать, как расхитителей большой людской веры и сокровищ революции.
— Не так от них легко избавиться, — задумчиво сказал Борисенко и повернул в поле к одинокому трактору.
В голубом туманному отсвете фар покачивалась свежая пашня, и даже теперь было видно, как глянцево поблескивали жирные долинные ломти. Молодой улыбчивый тракторист остановил машину, соскочил на землю и радостно поздоровался с секретарем райкома и Бессмертным.