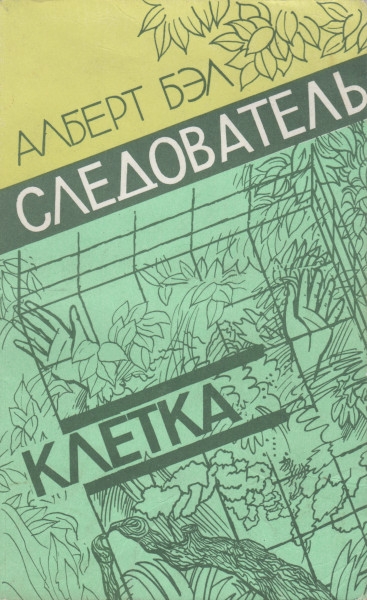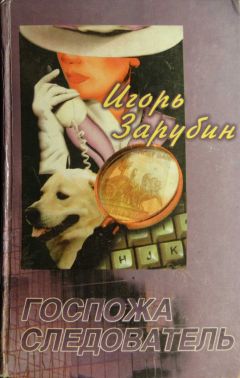Учитель знал архитектора по его статьям в газете, видел здания, построенные им.
— Значит, я должен отдать свою кровь убийце?
И он отказался отдать свою кровь Диндану. Это шло вразрез с его принципами. Как после этого он станет смотреть в глаза детям? Так рассуждал он, к такому пришел решению, и его решение было окончательным.
Второй донор, человек попроще, работал кассиром в промкооперации. Здоровяк без особых претензий и высоких помыслов. Кровь сдавал отчасти из гуманных соображений, но больше для здоровья, временами чувствуя в себе избыток крови.
Кассир был на редкость крепким человеком, сидячий же образ жизни действовал на него губительно. А сдаст кровь — становится легче. Кассир не возражал отдать кровь Диндану, хотя Диндан в свое время ограбил кассу его коллеги в соседнем районе.
Но когда кассир увидел, что учитель — а тот в его глазах был эталоном порядочности — отказывается дать кровь, то и кассир заколебался.
Он знал, в поселке станет известно, что он отдал кровь убийце. Пойдут разговоры, что убийца ему брат про крови. Как знать, распустят слухи, что и он убийце брат ко крови. Отдать кровь нарушителю закона? Человеку, в свое время обокравшему его товарища по работе? «Ага, вон кого, оказывается, пригревает своей кровью наш кассир, может, он тогда и кассу помог ему ограбить? А что? Ничего удивительного! Не поискать ли нам другого кассира». И кассиру померещилось, что он слышит голос начальника: «У шурина воры в Риге среди бела дня от зоопарка угнали новенький «Москвич». Пока тот в саду зверей разглядывал, машины и след простыл. И кто бы мог подумать, что наш кассир такому зверюге даст свою кровь!»
Кассир, потея от смущения, тоже отказался.
Жизнь Диндана висела на волоске. У него была редкая группа крови. Пока Струга пытался уговорить принципиальных доноров, вошел один из милиционеров, сказал, что у него та самая группа, что он согласен дать свою кровь.
Лишь на следующий день врачи разрешили Струге задать Диндану несколько вопросов.
Струга показал фотографию Берза.
— Твоя работа?
Ну, дела! Ему хотят пришить мокрое дело! Ничего не выйдет! Он, Диндан, не убивал этого человека.
— Нет, — сказал Диндан, часто моргая.
— Где труп? — спросил Струга.
Позже Диндан и сам не мог понять, почему сознался. Каток действительно расплющил его волю? Почувствовал раскаяние?
Нет, Диндан оставался верен себе. Признание объяснялось тем, что Диндан только что изведал сладость покоя, свободы от страхов, его донимавших.
Как это прекрасно — свобода, покой! Первую искру он ощутил уже тогда, когда решил не сдаваться, бороться, когда, отстреливаясь, убегал.
Асфальтовый каток все приглушил.
А теперь он знал, это чувство можно вернуть. Говорить то, что думаешь, говорить открыто, не таясь, не лгать ни себе, ни людям, — и тогда придет чудесный покой, чувство безмятежности. Страх же исчезнет.
Теперь он знал, что ему следовало сказать своим тогдашним пассажирам: «А знаете, меня ужасно беспокоит ваш сверток, так и кажется, вы собираетесь огреть меня завернутым в газету кирпичом!»
Одно из двух: или в свертке оказался бы кирпич, или же все кончилось бы смехом.
И, возможно, жизнь сложилась бы иначе. Но он без проверки поверил в кирпич. Варился в собственных страхах, пока не сварился. Пока по нему не проехался каток, как проехался по человеку в том анекдоте. Теперь его, плоского, расплющенного, подсунут в щель под дверью зала суда.
Впрочем, одним страхом всего не объяснить. Диндан не собирался менять свои взгляды на взаимоотношения между обществом и такими индивидами, как он. Нет, он останется при своих убеждениях. Кто докажет ему обратное? Если человек не хочет сам себя убедить, то и другие навряд ли сумеют.
Но теперь-то он знал, как избавиться от страхов.
Рассказать обо всем, ничего не скрывая, — вот верное средство.
Последний тяжкий камень — Берз — еще давил Диндану грудь, и он швырнул этот камень в невозмутимого Стругу.
Пусть узнает, пусть убедится! Диндан не посягал на жизнь Берза. Труп сам превратился в труп.
— В клетке! — насилу выдавил Диндан.
Над ним нависали глаза Струги, камень погружался все глубже, лицо оживилось, всколыхнулась подернутая рябью невозмутимость.
— В клетке? В какой клетке?
Но Диндан больше не мог говорить. Главное было сказано, на мелочи не хватило сил. В груди так легко. Не вчерашняя птичья легкость на операционном столе, когда он собирался упорхнуть в небытие, нет, теперь была легкость души человеческой, ее покой. Казалось, сердце вот-вот остановится от обретенного покоя.
Кровь в голове шумела, совсем как шумит лес, а может, это в лесу шумела кровь? И возможно, в тот миг облегчения, когда сердце почти остановилось, Диндан осознал впервые, что он сделал Берзу — как человеку. И этот первый проблеск, первая ласточка совести не явились ли причиной внезапного обморока? Как знать? Одна ласточка не делает весны. Может, всего-навсего минутная слабость?
Подоспела сестра со шприцем.
Струга так и не дождался ответа. Доктор сказал, что жизнь Диндана вне опасности, что завтра можно будет опять с ним поговорить.
Исчезновение Берза, таким образом, было подтверждено. Осталось разыскать труп.
Установить обстоятельства гибели Берза. Предать суду Диндана и сообщников. И после сдать дело в архив.
Берз?
Каким он был в действительности, узнаю ли, раздумывал Струга. Как вел себя в последние минуты? Был ли похож на меня? Все мы дети одного поколения, как орехи с одного куста. В иных забирается червь, выедает сердцевину, остается труха. Других сорвет ветер еще до того, как успеют вызреть, третьих растащат белки, склюют птицы, и лишь немногие, попав в плодородную почву дадут новый побег. На первый взгляд, все мы одинаковы, но по сути своей очень даже разные. Быть может, подобные рассуждения в мои годы непростительны и наивны? Ребячество? Сентиментальность? Ну так что же? В моем возрасте и в моей работе не обойтись без щепотки морали. Как повару не обойтись без соли, так и следователь обязан приправлять суп жизни щепоткой морали. Иначе он превратится в обычного пропольщика сорняков. А сорняки и машиной можно уничтожить. Или с помощью химикатов.
Однако дело не закончено.
Клетка?
Почему клетка?
Где эта клетка?
Шел сороковой день с