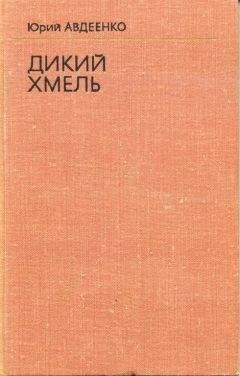— Это очень короткая, очень печальная история. Я был женат только сорок один день. Жена умерла внезапно. От рака крови. Сгорела за две недели.
Надо было бы помолчать. Приличие требовало выражения скорби на лице, печали. Но слова вырвались сами:
— Проклятая болезнь!
— Да, уж хуже не придумаешь.
— Человеку, который откроет, как ее лечить, нужно поставить золотой памятник при жизни.
— Будем надеяться, что потомки наши на золото не поскупятся.
— Все-таки потомки?
— Думаю, потомки.
Я смотрела на Луцкого, и мне было жаль его. Я никогда не испытывала чувства жалости к Бурову. Там было другое: вначале — любовь и надежды, потом — бабская любовь без всяких надежд и, наконец, горькое разочарование. Тут же сочилась обыкновенная житейская жалость. Чувство поразительное еще потому, что за все эти годы я знала Луцкого как строгого, педантичного и даже высокомерного директора фабрики, перед которым трепещут начальники цехов, инженеры, техники. И то, что он, Луцкий, сидел сейчас в моей комнате, в моем кресле, поверяя самое сокровенное, личное, пробуждало во мне тщеславие — сладкое, теплое, хмельное. Мне хотелось быть сильнее, могущественнее. Обогреть его, утешить. Но только не так, как это может сделать обыкновенная земная женщина.
Молчали, может быть, десять, может быть, пятнадцать минут. Слушали шелест шин на мокром асфальте. Ши-ши-ши... Даже дождь не стучал в окно. Был такой мелкий...
Потом Луцкий встал и пошел к телефону вызывать такси...
10
Я не тот человек, который способен двинуть мысль вперед. Похожа на чудака, решившего заново изобрести велосипед. В голову мне приходят мысли, как острова, уже давно открытые кем-то.
В чем смысл жизни? Конечно же в труде. Ей-богу, говорю так не потому, что об этом твердили еще в школе. Сама, собственными руками, головой, поясницей выверила это. И счастье все-таки для меня в труде тоже. Любовь — совсем другое. Любовь — физиология. У человека, может быть, не такая, как у котов и кошек, но все равно физиология. Чувство, заложенное еще в зародыше, запрограммированное матушкой-природой. Если бы только одна любовь была полным и законченным счастьем, тогда человек был бы обязан расти, как дерево, без всяких видимых усилий: цвести, плодиться, опадать.
Ясно одно: счастье — понятие очень личное.
Слепой, парализованный писатель пишет, не видя строк, по трафарету, и счастлив тем, что оставляет людям книгу, которую сам никогда не сможет прочитать.
А у нас на конвейере одна молодая женщина пыталась работать стоя, опасаясь, что от долгого сидения деформируется зад. Когда Люська Закурдаева сказала ей, что такой зад не деформируется даже под катком, молодая женщина тоже была счастлива.
Как заметил бы Буров: «Suum cviqve». Каждому свое! Опять мысль не новая. Но ведь верная. Правда?
11
Осень. Субботнее утро. Между туч прорезалось солнце. Красненькое. Как свежее пасхальное яйцо.
Под пасху мама всегда красила яйца. И пекла куличи. Я любила видеть их на просторной мелкой тарелке, красивые, точно цветы на клумбе. В завтрак мы разговлялись: съедали сырковую массу с изюмом, по яйцу, по кусочку кулича.
— Что мы, нехристи? — говорила в таких случаях мама. И добавляла: — Христос воскресе!
Мне нужно было отвечать:
— Воистину воскрес.
Но я забывалась. И чаще говорила:
— Исус Христос!
И мама смеялась — легко и чисто, как умела смеяться только она одна.
Когда я вышла замуж за Бурова, два или три раза вспоминала про пасху. Красила яички акварелью, а кулич покупала в магазине. Потом Буров сказал:
— Прекрати. Ты член партии. Не к лицу тебе чтить церковные праздники.
— Дурак! — ответила я.
Конечно, зря. Нужно было объяснить ему, лопоухому, что не церковные праздники чту я, а память о собственном детстве, память о маме, память о радостных утрах, когда мы сидели за красиво обставленным столом и я знала, что встану из-за этого стола сытой.
Но я сказала:
— Дурак!
И он очень обиделся... Если бы я могла начать все заново — это бы я не повторила...
Впрочем все-таки трудно жить с человеком, который легко обижается, которому все нужно объяснять, который может сделать тебе больно, сам того не замечая...
Увы! Это только нытье. Нытье одинокой женщины.
А за окном умытое утро. И небо. И луч солнца, как желтый карандаш. Напротив дома стоит бело-голубая машина с красной надписью: «Молоко». И тротуары цвета молока, и асфальт на дороге тоже...
Я стою у окна. Простоволосая, в ночной рубашке. И мне не хочется даже шевельнуть рукой, чтобы нажать кнопку транзистора. А нажать нужно: будут сообщать прогноз погоды. Плюс на улице? Минус? Скорее всего, минус, раз иней цепко держится за землю.
Может, сесть в кресло и поспать немного сидя, положив ноги на журнальный столик.
Скука...
Кажется, телефонный звонок. Не дверной, а телефонный. Бегу в прихожую. Хорошо, кто-то вспомнил обо мне.
В трубке слышу голос Луцкого:
— Доброе утро, Наталья Алексеевна. Разбудил вас?
— Нет. Я давно на ногах.
— Что так?
— Занимаюсь уборкой, стиркой, глажкой.
— А за окном такое солнце!
— Некогда мне смотреть в окно, Борис Борисович. Некогда.
— Все-таки посмотрите.
— Хорошо. Посмотрю. А что дальше?
Моя прямолинейность, похоже, смутила его. Возникла пауза. Он растерялся или задумался.
— В такую погоду волшебно плыть по реке, — голос вкрадчивый, нестеснительный.
— Ха-ха... Я не Аленушка из сказки.
— Я тоже не Иван-царевич...
— Жаль.
— Все-таки жаль?
— Я уже сказала...
— Наталья Алексеевна.
— Слушаю, Борис Борисович.
— Поплывем на теплоходе до Калинина?
— Холодно.
— Это смешно.
— Почему же? На асфальте лежит иней.
— Я захвачу для вас дубленку. У нас будет люксовская каюта. И ресторан открыт с девяти до двадцати трех.
— Вы Змей-Горыныч...
— Так только кажется.
— И когда мы вернемся?
— В воскресенье вечером. В девять или десять часов.
...Я вспомнила тот вечер в Туапсе, когда Буров пригласил меня в гостиницу. Все получилось очень естественно. И просто. Мы вышли из ресторана в раннюю, еще не загустевшую темноту, высвеченную не фонарями, а взъерошенным, неспокойным небом. Ветер торопливо гнал тучи, двигал деревья. Капли падали с листьев, а может, не только с листьев, но и с неба. Однако разобраться в этом было выше моих сил. Да и не было особой нужды разбираться, потому что капли оставались каплями, откуда бы они ни падали.
Вздохнув, я поежилась и сказала:
— Мы поспешили выйти. А теперь мне не остается ничего другого, как возвратиться в сарай.
— Пойдем в гостиницу, — предложил Буров.
— Она лучше сарая?
— Во всяком случае, там тепло и сухо.
Он взял меня под руку. Сказал:
— В этом городе высокая влажность.
— Потому что дожди.
— Верно. Дожди всему виной...
Мы шли по длинному тротуару, на котором мокли желтые квадраты окон, обреченно темнели лотки, покинутые продавцами, как корабли матросами. Обгонявшие нас машины раскрашивали ночь стоп-сигналами. И люди в блестящих от влаги плащах были раскрашены в причудливые оттенки. И было ощущение, что я попала в новый, совершенно незнакомый мне мир.
Гостиница устроилась за деревьями возле вокзала. Когда приходил поезд и дикторша объявляла об этом по радио, в номере все было слышно.
Тогда прибыл скорый «Москва — Цхалтубо».
Я спросила:
— Что такое Цхалтубо?
— Маленькое курортное местечко в Грузии.
— Оно знаменито вином?
— Нет, лечебными ваннами. Когда мы состаримся, поедем туда за молодостью.
— Ты думаешь, мы когда-нибудь состаримся?
— Nil admirari, — произнес Буров. И пояснил: — Ничему не следует удивляться...
— Рискнем, — сказала я в трубку. — Никогда не была в Калинине. Давным-давно этот город, кажется, назывался Тверью.
— Не имею понятия, — сказал Луцкий. — Но город с названием Тверь существовал... Была даже такая песня: «По Тверской-Ямской...»
— Слышала...
Луцкий закашлялся сухо, резко и, наверное, прикрыл трубку ладонью. Потом сказал: — Я заеду за вами на машине. Скажем, в одиннадцать часов...
— Нет. Давайте где-нибудь встретимся. Так мне удобнее...
— Тогда, может, на Речном вокзале? Я жду вас в двенадцать часов возле касс.
— Хорошо.
— До встречи, Наталья Алексеевна.
Наспех одевшись, пошла в парикмахерскую. Улица пахла вялым листом и первым морозцем. На мусорных ящиках сидели голуби. С севера, со стороны окружной дороги, двигалась туча, низкая, очень темная. Жадно слизывала солнце, ступая по плоским крышам, как по кочкам.
Сразу стало неуютно, зябко. На душе появилось беспокойство, похожее на страх. Захотелось в постель или в теплую ванну. И, конечно, никуда не ехать, никуда...