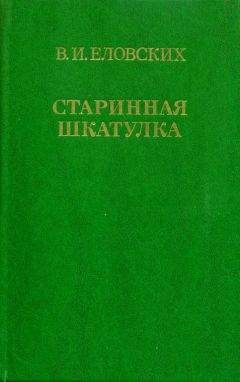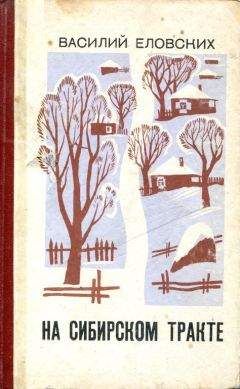— Да, видела.
— Где же?
— В музее. А что?
— У меня есть старинные книги на латинском языке. Вы слыхали о латинском языке? — опять спросил он и тут же упрекнул себя: «Глупо! Ведь она, наверное, медик».
— Слыхала, — совсем уж сухо и неохотно ответила.
Петров незаметно обтирал руку о пальто. Он всегда чувствовал какую-то странную, самому ему непонятную брезгливость к Орлову.
Оба они — Петров и девушка — холодно посматривали на Орлова, были как бы над ним, и это раздражало Ореста Михайловича. Страшно захотелось чем-то унизить Петрова, и он сказал:
— Где ты купил такое старомодное пальтишко? И какой дурацкий цвет.
Петров растерянно улыбнулся. Он всегда терялся от людской наглости и бестактности. В глазах девушки запоблескивал недобрый огонек:
— Пальто старомодное, скорее, на вас. И с коих это пор темно-коричневый цвет стал дурацким цветом?
Она откровенно зло усмехнулась и пошла. Пройдя шагов пять, сказала Петрову намеренно громко, чтобы услышал Орлов:
— Этот человек страшно пошл и нахален…
Но Орест Михайлович не услышал. Он шел по улице, сердито напевая себе под нос. Думы у него тоже были сердитые. Его злили Петров и девка, особенно Петров. Мальчишка, телок, а себе на уме. Смотрит-то как неприязненно. Если уж ты телок, так и будь во всем таким.
Скульптуры Петрова есть в музеях и картинных галереях, этого человека любят художники, похваливают газеты. Орест Михайлович сам чувствует: в телке что-то есть, есть и вот это «что-то» в нелепом соединении с жалким характером Петрова, его стеснительностью и робостью и вызывает злость к коллеге. Телок будь телком. А неприязненный взгляд что — чепуха; Орлов и сам, бывает, так же вот посмотрит на кого-нибудь и потом дивится: почему так смотрел.
Орест Орлов — это звучит. А вот Володя Петров не звучит. Володя Петров — жалкое что-то… Петров, Иванов, Васильев, Федоров… Господи, до чего же убогой была фантазия у наших предков, даже фамилии не могли придумать поинтереснее!
На днях встретил пенсионера-журналиста Тараканова и первым поздоровался с ним. Орест Михайлович первым здоровается только с начальством. А тут сделал исключение. Ему кажется, что в приветствиях должны учитываться не только чины, заслуги, возраст, но и… как бы это сказать-то получше… то, насколько человек ценит себя, уважает собственное «я», а каждый человек, по мнению Ореста Михайловича, должен ценить и уважать, иначе это будет не мужчина, а тряпка.
У Тараканова только и разговору было, что о Петрове: молодой, талантливый, «подает большие надежды»… И все спрашивал, над чем Петров работает, как он живет. В словах и голосе равнодушие к Орлову, и это бесило Ореста Михайловича.
Орлову вспомнилось, как в давние годы он из-под носа у Петрова увел Нату, можно сказать, из рук вырвал, а тот только хлопал глазами. Чего не вырывать, если можно вырвать. Со свойственной художникам наблюдательностью Орлов сразу подметил ее детскую восторженность и потянулся к Нате. Да из-за того ли?.. Что уж там! Мужчины раньше засматривались на Кузнечкину, оглядывались, когда она проходила по улице. Орест Михайлович и сам говорил (в тот первый год): «Ты красивая. Ты очень красивая». Тогда вечером сказал ей, что Петров — тюха-матюха, слабак, хотя его, Орлова, ученик. Насчет ученика он, конечно, подзагнул. Правда, Орест Михайлович всякий раз в категоричной форме высказывает Петрову свое мнение. Но ведь так может говорить даже ученик учителю.
С Натой ему было хорошо.
— Ой, как у вас ин-те-рес-но!
Наглядеться не может, расспрашивает. Она усиливала в Орлове чувство довольства собой. Приятно иметь дело с простушками, с такими раскован. С такими он чувствует себя на высоте. Он любит простушек.
— Мне даже страшно с вами. Вы такой большой человек.
И он, бывало, слушая это, скромно потупится.
— У вас такой… такой талантище!
Очень уж она понравилась ему тогда: тоненькая, стройненькая, так бы и проглотил ее вместе со шляпкой и туфельками. Сказал, что ему только тридцать годков. И проглотил тогда. А теперь вот, через много лет, отрыгивается и поташнивает. Как она отъелась и обнаглела. Просто диво какое-то! И вообще о ней теперь и говорить не хочется. Угораздило его нахамить ей, когда она приходила к нему брюхатая. Он никогда никому не хамит, со всеми вежлив и любезен, давно поняв, что вежливость людьми ценится больше всего, а разве трудно быть вежливым. Конечно, нет. Хо-хо!.. И потом: вежливость — это культура. Солидные манеры, важная поступь, дорогой, в меру модный костюмчик и… любезность. Впечатляет?!
В тот день у Ореста Михайловича была женщина. Шикарная, надо сказать, женщина, гранд-дама. Они встретились первый раз, только-только разлили по фужерам шампанское, доверчиво поглядели друг на друга, и тут нате — она, Ната, со скорбной физиономией. Надо бы ему, дураку, как-то осторожно, вежливо выпроводить девчонку, может быть, назначить свидание на завтра или послезавтра. Встретился бы еще раз, — подумаешь. Поговорил бы… А то началась шумиха.
Его вызвали в организацию Союза художников. И председатель правления, седой, всегда такой тихий, любезный, в этот раз смотрел волком.
— Вы знаете Наталью Кузнечкину. Она работает… — Он назвал завод.
Голос у председателя низкий, сильный, прямо-таки генеральский. Надо же, какое превращение.
— Да, знаю.
Не скроем, Орест Михайлович был обеспокоен, но чуть-чуть. И только в начале. И это было, пожалуй, не беспокойство само по себе, а холодные, может быть, несколько напряженные раздумья о сложившейся ситуации.
Председатель нахмурился:
— В каких отношениях вы были с ней, Орест Михайлович? Вопрос вам понятен?
Еще бы непонятен — ребенка нашел.
— Да ни в каких.
— Вы жили с этой женщиной?
Что с ним сегодня, с председателем? Аж покалывает глазами.
— Нет, не жил.
— Да так ли, Орест Михайлович?
— М-м! Ну, что значит жил? Она раза два приходила ко мне в мастерскую. В общем, имела на меня виды. А в чем, собственно, дело?
— А вот прочтите. — Он подал Орлову несколько листков из школьной тетрадки, исписанных ровным, аккуратным женским почерком.
Это было письмо от девушек из заводского общежития. «Пока обхаживал, так бог знает, что обещал… Использовал и бросил… Родила ребенка… Негде жить… Не на что жить…»
— С этого письма и надо было начинать, — нравоучительно проговорил Орлов. — Это мессалина. Потаскуха. Она со многими была в близких отношениях. Но с уличных повес и забулдыг что возьмешь. Они голы, как соколы. Вот и валит на меня.
— И все же вы жили с ней. Это я чувствую.
— Ну, встречались раза три. Но когда это было? Года два назад, — соврал Орлов. — И не думаете ли вы заводить монастырские порядки? Сейчас не то время.
— Но вот э-э… жалуются. Скажите, пожалуйста, когда и при каких обстоятельствах вы с ней познакомились?
— Познакомился я с ней у Владимира Петрова.
«Пожалуй, зря я о Петрове… Тот телок может подвести меня».
— Ну, вышли мы от Петрова вместе. И я спросил, каково ее мнение о его работах. Еще о чем-то говорили. О пустяках каких-то. Уже не помню, о чем. Это очень странная особа, я вам скажу.
— А в чем проявляется ее странность?
— Шизофреничка, по-моему.
— А что конкретно?
«Вроде бы не то говорю». Он вспомнил, как третьего дня лифтер болтал про свою тещу: «Чудная старуха, ей-бо! Уткнется шарами в подол к себе и сидит целыми днями, будь ты не ладна! Ничо не слышит».
— Уткнется глазами в пол и сидит себе, ничего не слышит и не видит. Нигде на работает. Тунеядствует.
Тут будто что-то подтолкнуло его:
— И почему они оскорбляют меня? Ну, написали не то, что надо. Думают одно, а в действительности было другое. Бывает. А почему оскорбляют? «Бессовестный… Трепло…» А вот и вовсе: «А та сволочь…» Это оскорбление личности. Сто тридцать первая статья уголовного кодекса. И ведь сами же пишут… Смотрите: «Ната скрытна, но мы догадывались…» Они догадывались. Им, видите ли, так казалось. Мало ли что кому кажется. Надо исходить из достоверных, проверенных фактов, а не из каких-то домыслов и предположений.
«Моя взяла!» — подумал он торжествующе.
Это чувство торжества, чувство облегченности не покидало его и потом, когда он выходил из кабинета и шагал по широкому скучноватому коридору своей уверенной, по-юношески легкой походкой.
У наружной двери, прислонившись к стене, плакала девушка. Нервно вздрагивали узкие плечи.
— Не могу ли я чем-нибудь помочь? — спросил он.
— Нет.
Тонкая фигура, красивые голубые глаза, а нос широкий, неприятно приплюснутый. Ох, как неаккуратно лепит людей природа! Видать, у адвокатов была. В этом здании много учреждений. На первом этаже адвокаты работают. Обижена. Мужем, скорее всего. Пожил, пообнимался и — фьють. Днем — скучная работа, к вечеру приплетется домой и — одна-одинешенька. А может, и по работе что-то. Уволили. Или шибко уж крепко наказывают. Такие вот обиженные и одинокие легко сдаются, — ищут сочувствия, теплоты и внимания. Тут-то их и лови! Совсем недавно дело было, с полгода назад. Одну продавщицу турнули с работы — не то проворовалась, не то прошляпила. В общем, получилась у бабы недостача. Как водится, слезы да охи. Орест Михайлович тут как тут: деньжонками помог, успокоил и приласкал. И баба довольна, и он. К сведению обольстителей: ищите обиженных и одиноких. Уж кто-кто, а Орест Михайлович не ошибется.