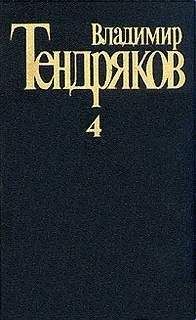— Вы в тюрьме не сидели?
Спросил просто, даже скучненько, без тени вражды и угрозы, словно осведомился: «Как ваше здоровье?»
— Нет, — ответил я.
Уж не пугать ли вздумал меня? Человека, который сам себя осудил, сам себя сослал в добровольную ссылку.
Я зацепил сапогом стул, пододвинул к себе и сел, перебросив ногу на ногу. Громадная казенная бахила, заляпанная красноглинской глиной, вызывающе закачалась перед Ушатковым. Но тот и внимания не обратил на мою демонстрацию, озабоченно продолжал:
— Вы о чем толковали на работе? За что агитировали?.. И откровенно, Рыльников, откровенно, без виляний.
— Может, вы мне сами доложите — о чем? Раз разговор начали с тюрьмы, так уж выкладывайте и состав преступления.
— За господа бога агитировали или нет?
— Нет, не агитировал.
— Без виляний, Рыльников, без виляний!
— Без виляний — не агитировал.
— Молчали? Все беседовали, а вы сидели паинькой?
— Объяснил, кто я, почему здесь у вас, в Красноглинке, оказался.
— И даже слово «бог» не произносили?
— Как же мог не произносить это слово, когда сообщал, что я верующий.
— Значит, признаетесь?
— В чем?
— Что верите в бога.
— А зачем, собственно?
— Без виляний, Рыльников, без виляний…
— Нет никакой нужды в особом признании, ни перед кем не скрываю: верю в бога, и вины за собой в этом не вижу.
— Увидите! Позаботимся.
— Вы, товарищ Ушатков, запамятовали: в нашей стране законом разрешена свобода вероисповедания.
— Старухам темным разрешена эта свобода — несознательны, спрос с них невелик, а вы сознательный, Рыльников, образованный, — значит, злостный мракобес, вас общим аршином мерить нельзя!
— Выходит, я повинен за свое образование?.. Вот это уже мракобесие чистой воды.
— Осторожней, Рыльников, осторожней!
— Я не так, как вы, думаю, не так гляжу, но почему это должно вам мешать? Может, от этого жизнь испортится, земля станет хуже рожать, порядок нарушится, люди грызть друг друга бросятся?..
Запавшие виски, костистые скулы, голубой открытый взгляд, в голосе убежденность.
— Может!
— Как так, объясните?
— Ежели каждый будет думать во что горазд, глядеть куда заблагорассудится, то получится — кто в лес, кто по дрова. Не держава, а шарашкина фабрика. Дисциплина должна быть во всем!
— Не нарушай дисциплины, не смей думать иначе?
— Вот именно, не смей!
— Не смей думать по-новому, думай, как думали до тебя, топчись на месте, не рассчитывай на развитие… Не страшно ли вам?..
Лицо Ушаткова пыльненько посерело, взгляд потемнел, костистым кулаком он стукнул по столу:
— Вот!.. Ушатков — страшен и вреден, а ты, голубчик, — полезнейший человек!..
— А вдруг да…
— Ушатков, который к Марксу зовет!.. Полезен не он, а ты — к богу зовешь, к Христовым идейкам! Они же передовые, не обветшалые… А вправлять мозги ты умеешь, да! Послушай такие речи человек без твердых убеждений — глядишь, вместо нашей песни «Никто не даст нам избавленья — ни бог, ни царь и ни герой» запоет: «Спаси и помилуй, господи!»
— Почему вы думаете, что я не пою об избавленье. Пел эту песню, пою, буду петь.
— Безбожную?
— Песня-то зовет к защите угнетенных и обездоленных, к тому же, собственно, звал и Христос.
— Эвон! До чего мы ловки! И откуда вы вдруг повылезали! Раньше-то вас и на дух не было слышно. Развелось по стране нечисти, вот что значит без крепкой руки остаться…
— Без крепкой руки?.. А не кажется ли вам, что тот, кто сумел обзавестись крепкой рукой, из той святой песни невольно словно по слову выкидывал: «Ни бог, ни царь и ни герой». С крепкой-то рукой как не стать героем. Будут и возвеличивать, и молиться на тебя будут. А глядишь, в молитвах-то и до бога вознесут…
В голубых глазах Ушаткова что-то захлопнулось, они стали пустые, непроницаемые, на желтый костистый лоб набежала суровая складочка.
— Ну, хватит! — Он встал, прямой, плоский, остроплечий, дешевый пиджачишко висит, словно на вешалке. — Поговорили, обстановочку выяснили. Когда понадобитесь, дадим знать. — И отвернулся…
— До свидания, — сказал я. — Думается все же, песню ту я правильнее вас пою.
На работе мне пришлось объяснить, почему я опоздал.
Гриша Постнов, как всегда, не смотрел в мою сторону, стоял над бревном, бесстрастно тюкал топором, стесывая бок. Он всем своим существом показывал, что раз и навсегда не замечает меня, в упор не видит, не слышит — пустое место.
Митька Гусак вылез из ямы — гол по пояс, костлявое тело маслянисто лоснится от пота, волосы повязаны носовым платком, во все четыре стороны торчат рожками узелки, — представить сейчас нельзя, что этот Митька стоял вчера вечером посреди села показательно наряден, не человек, а наглядное пособие на тему: «Жить стало лучше, жить стало веселей».
Митька вылез и дружески подмигнул мне:
— На поверку-то, не бог тебя выручает, а ты его. Плоховат, выходит, у тебя товарищ. Нечего и водиться с ним.
Митька — сам «штрафничок», не столь давно еле-еле увильнул от суда — сочувствует мне.
Михей Руль, осторожненько вырубая паз — «выбирал череп», — заговорил:
— Зря ты, парень, на весь лес кукуешь. Со всяким норовом зверь живет, кому-то может твое «ку-ку» и не понравиться.
Я возразил:
— А для меня, Михей Карпыч, никакой зверь не страшен — несъедобен я.
— Храбрился ерш перед щукой.
Пугачев, молчаливо и хмуро выслушавший мои объяснения, сейчас вдруг взорвался на старика:
— Подлости учишь, Михей! Втихаря кукуй, то есть себя стесняйся, кукушкой под ворону рядись. Ежели все ряженые станут, ненастоящие, как жить-то тогда?
— А как до сих пор мы жили? — ухмыльнулся Руль. — Ты думаешь, я весь наружу? Ан нет, кой-что под семи замочками прячу — не доберешься, шалишь.
— Утаиваешь?
— А как же иначе?
— Ты против искренности? Ты против правды?
— Правдив простак, да на нем воду возят.
— Жалко мне тебя, Михей.
— Подожди жалеть, сперва поживи с мое.
Пугачев повернулся ко мне:
— Должны люди открыто в глаза друг другу смотреть? Как ты думаешь, боголюб московский?
— Если только они не ненавидят друг друга, — ответил я.
— Эх-хе-хе! — вздохнул Руль. — Не язвил вас, парнишки, жареный петух в зад.
Рулевичи деловито махали топорами. Санька Титов ворочался в яме, выгонял «кубики». Гриша Постнов демонстрировал свое невнимание ко мне. Пугачев помялся возле меня, посверкал глазами с медного лица и вдруг с тоской воскликнул:
— Один ли ты, боголюб, непонятен! Все люди — лошади с рогами.
И резко отошел.
Я взялся за лопату. Я несъедобен, неуязвим. Что сделают со мной Ушатковы? Арестовать за то, что верую, нельзя — закон не разрешает. Снять с работы, отнять эту лопату?.. Смешно. Я свободен. Полностью.
Стало даже как-то обидно. За свои взгляды я готов на крест, на костер. Отошло время крестных казней…
* * *
— Ты уж, сокол, больно скор на расправу. Чуть что не понравилось — сразу печать Каинову ставишь: мол, ни дна тебе ни покрышки. Эвон как сестру Аннушку припечатал — занедужила, из дому теперь не выходит. И с Михайло Ушатковым ты теперь вот разделался: ирод, да и только, анафема!
— Но ты же сама говорила, Дуся, что от этого человека добра ждать нечего.
Мы сумерничаем с теткой Дусей у подсиненного окна, обсуждаем мою беседу с Ушатковым.
— И теперь говорю — добро он часто изнаночкой поворачивает.
— «По плодам их узнаете их…» А плоды-то Ушаткова горькие.
— Ой, всегда ли? Однажды верхом он по берегу ехал. Весна была, самый ледоход. Глянь, а по реке-то старый дубас тащит. В нем девчонка, совсем мала, лет трех, что ли… На дубасе и летом, при малой воде, не каждый проплыть сможет, а уж в ледоход-то верная гибель. Толкни любая льдина — и перевернется… У каждого, поди, зашлось бы сердце — дитя же! — но, ой, не каждый полезет в полую воду, когда со льдом хороводит, — кто себе враг? Михайло-то сперва на коне хотел доплыть, да не тут-то было, разве коня загонишь в такую реку… Тогда скинул он лишнее, да и пошел среди льдин рукавами махать, притянул дубас к берегу, девку в охапку, а девка-то кошку держит, расставаться не хочет, так и принес ее в деревню с кошкой… Потом от застуды весь чирьями зарос. Да-а, доброе… Да-а… А вот в тот же год, кажись, он, Михайло, как-то ребятишек в траве застал, те с голодухи щавелек сбирали. Ведь не из баловства, с голодухи, и чего доброго — траву, так нет, стребовал бумагу составить о потраве покосов. Подумай-ка, на детишек, как на скотину. Трава, выходит, дороже детишек. Вот хоть хай его, хоть хвали.