— Это не я его выдернул, — сказал правду Белов, молниеносно сообразив, что на дереве должны быть и отпечатки пальцев Эдика и что они могут быть обнаружены экспертизой.
— А кто же?
— Эдик выдернул!
— Откуда же вы знаете, если там вообще не проходили.
— Нет, проходил… Но выдернул кол Эдик.
— Зачем же?
— Он хотел убить Михаила Варламовича Кулашвили, а я помешал. Завязалась драка.
— Вы, которого столько раз накрывал с контрабандой Кулашвили, благородно хотели отстоять его жизнь?
— При чем тут контрабанда? Вы мне лишнего не шейте. Меня за руку ни разу не поймали. Оговорить невиновного легко. Три бригады ездят, а отвечай Белов. Не выйдет, гражданин начальник!
— Значит, вступились за жизнь Михаила Варламовича Кулашвили?
— Конечно, как патриот, и вообще!
— А откуда же вы, патриот, знали, что замышляется убийство?
— Эдик проговорился по пьянке.
— Экспертиза установила, что он был совершенно трезв.
— Белов, зачем гнете? — вмешался Чижиков. — Эдуард Крюкин никогда не пил и не курил. И бросьте ломать комедию. Нам известно гораздо больше, чем вы думаете.
— А я всю правду, как есть, — промямлил Лука.
— Ну вот, — продолжал капитан Домин, расправляя плечи. — Значит, вы знали, что он…
— Собирается совершить злодейское покушение на жизнь товарища Кулашвили, — волнуясь и чувствуя, как все больше запутывается, поспешно сказал Белов. Лисьи глазки бегали, губы искривила услужливая, гадливая улыбка. Лоб покрыла испарина. — И я, рискуя своей жизнью, решил доказать свое хорошее отношение к Михаилу Варламовичу, решил прийти и удержать Эдика от преступления или отвести его в милицию.
— А следы говорят о другом, Белов. Вот как было: Эдик шел по Пушкинской, а вы стояли за забором. Скажите, почему в ту же ночь на другой стороне улицы, на пролете между вторым и третьим этажом стояли Бусыло и Зернов? И может быть, вспомните, зачем они держали в руках кирпичи?
— Ничего не знаю.
— Будем тянуть?..
Лука протер свои лисьи глазки.
— Закурить можно?
— И так дыма напустили, Белов, дальше некуда. Ну закуривайте.
Белов достал портсигар, но стал открывать его не с той стороны. Чуть крышку не сломал. Выхватил толстыми пальцами папиросу, не той стороной сунул в рот. В замешательстве выдернул папиросу изо рта.
— Можно воды?
Чижиков налил воды.
Мелкие зубы выбивали дробь.
Лука лихорадочно искал выход из положения… Сомнения быть не могло: знают, что он убил. Жаль не добил его, гада, на месте! Поторопился. Непутево как вышло!
— Так почему вы убили его?
— Эх, не хотел говорить, да придется. Пишите, все по правде расскажу.
— Говорите, говорите.
— Путался он с моей женой, с Липой. Она же младше меня. Он совратил ее. Он же силком ее взял. На плече у ней еще следы его зубов остались. Избил, изматерил, изнасиловал… Как бешеная собака, укусил. Вы бы стерпели? — всхлипнул он. — Вы бы стерпели такое? Я за честь жены его и порешил!
— Но откуда же вы могли знать, что той ночью Крюкин пойдет по Пушкинской улице, по которой ему ходить ни к чему. И тем более ночью?
— Знал.
— Откуда?
— Ну, знал и знал.
— Так, хорошо. Но зачем он шел ночью по Пушкинской улице? Ну скорее, скорее, Белов, придумывайте что-нибудь.
Белов молчал.
— Мне больно говорить это, Белов, — вставил Чижиков. — Но она изменяла вам с ним. Я видел Липу в постели у Эдуарда накануне убийства.
Белов ошалело молчал, по щекам стекали капли пота. Он так и не закурил.
— А мы вам скажем, Белов, как было, — веско сказал Домин, сказал так, что Белов невольно встал, точно выслушивая приговор.
Встали и Домин с Чижиковым.
— Вы собирались убить Михаила Кулашвили, но по ошибке убили Крюкина, спутав его с Михаилом Кулашвили.
— Да, — невольно вырвалось у Белова.
На путях в рабочем парке остановился тепловоз. В кабине замелькала высокая угловатая фигура. То наклонялась, то выпрямлялась. Чубатая голова выглянула и осмотрелась.
Почти напротив, замаскированный ветвями, на каштане над оградой сидел Михаил Кулашвили. Он ждал. Арсений утром сообщил ему, что здесь сегодня должна «состояться приемка товара».
Снова чубатая голова показалась из окна кабины. «Но почему так долго тянет? Или и он считает, что меня сегодня можно не опасаться? Слишком неосторожно действует», — думал старшина.
Его заманивали.
Контрабандисты решили заставить старшину кинуться за одним из них в погоню до противоположного забора, где его будут подстерегать еще двое. И тут втроем — разделаться.
С минуты на минуту все должно было свершиться. Одного не учли, да этого не знал и Михаил: Арсений с товарищами «подстраховывали» своего наставника. По обе стороны каштана, на двух тополях, сидели школьники. Двое ребят были по ту сторону, за второй линией заборов.
Чубатый с большим свертком вылез из кабины, осмотрелся, пригнулся к земле и быстро побежал к забору. Кулашвили соскользнул с каштана и кинулся вслед. У забора старшина настиг его. Но чубатый перебросил сверток через забор, вырвал доску и замахнулся. Михаил отклонился, доска обожгла лишь ухо, и выхватил у противника доску. Чубатый вырвал из забора вторую и ударил ею, но Кулашвили в этот миг подставил ребром свою доску, и доска чубатого разломилась. Контрабандист шмыгнул в пролом, за ним — Михаил. Оба тяжело дышали и не слышали, как подбегали Арсений с мальчишками. Контрабандист кинулся ко второму забору через огород, увидел своих, не понял, почему мешкают. Он побежал к ним. Старшина, отшвырнув доску, преследовал верзилу, признав в нем того, с кем схватился когда-то, защищая Нину.
Чубатый распахнул калитку и ускользнул от рук старшины. И тут, когда пошли к нему двое контрабандистов с железными прутьями, а чубатый верзила — с ножом, только тогда Кулашвили понял, что он в ловушке. Глаза нападающих были прищурены. Тот, с ножом, отрезал дорогу к калитке.
Двое с прутьями надвигались, рассчитывая одновременно ударить, наверняка. Михаил повернулся к ним, стараясь не дать обойти себя, хотя был обречен.
— А, гад! — резанул воздух выкрик чубатого, и он первым кинулся на Кулашвили. И в этот миг мальчишка упал ему в ноги, а Арсений повис на руке, сжимавшей нож. Чубатый споткнулся. А когда вскинул голову, кривясь от боли, нож его был уже в руке старшины. Через забор перемахивали товарищи Арсения, а вслед за ними показались две запыхавшиеся женщины. И рядом с женщинами — плечистый путеец.
Железные прутья выскользнули из рук. Один контрабандист доставал сигареты, другой закуривал. Сверток с контрабандой подняли с грядки и передали Михаилу.
Задержанных повели к вокзалу.
А Михаил не поднимал глаза на Арсения и его товарищей. Чувствовал подступающие слезы. «Неужели я так дорог им, что они охраняли меня, рискуя собой?» Михаил притронулся к вздувшемуся уху.
— Болит? Очень? — спросил Арсений, увидев влажные глаза старшины…
Сам Александр Александрович уже ничего не ждал.
Он сидел в своей комнате. Душа его была уже не в силах соединить три личности: Сморчкова — скромного диспетчера, Богодухова — честолюбивого артиста и, наконец, третьего: Сморчкова — опытного контрабандиста. Жизнь для него стала невыносимой. И провалы с контрабандой, и недовольство своей работой в депо, и жестокое разочарование в себе как в мастере художественного слова и как в режиссере-руководителе сыграли свою роль. А главное — с гибелью Эдика круг замкнулся. Уважать себя он перестал, но еще в глазах сослуживцев по депо, особенно в глазах Нины, желал сохранить свою репутацию безусловно честного, порядочного и сердечного человека.
Жизнь, которую он вел тайно, давно стала равносильна смертельной болезни. Ее симптомы он ловил в оскудении чувств — уже не радовало ничто. И нужны ли, собственно, деньги, если жил, тратя даже меньше, чем официально зарабатывал.
Кошмарные сны сменялись кошмарной явью. Ощущение неустойчивости росло, будто бы шел через болото по сгнившему мостику… Болото гнетущего одиночества обступало его со всех сторон.
В минуты беспощадных очных ставок со своей совестью он уяснил: все отвернутся от него, если узнают всю правду о нем.
Допрос Луки Белова — начало нитки. Да не начало — Михаил Кулашвили давно тянул ее. За руку он Бусыло и Зернова не схватил, но одно это позорище на суде чего стоит!..
А Чижиков? Не он ли во многом помог Михаилу, предостерег его?
А как провести Домина?
«Если на допросах «расколются» Бусыло и Зернов? Тогда не смогу убедить Нину в своей честности! А так хочется оставить хоть один добрый след! Ведь искренне учил ее и всех в кружке умению вживаться в роль. И теперь, если вынужден буду что-то признать, рухнет все действительно хорошее, чем одарял этих людей, и главное — Нину.
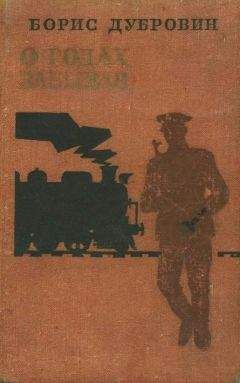

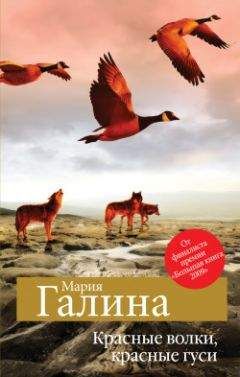
![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)

