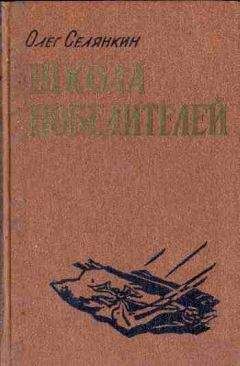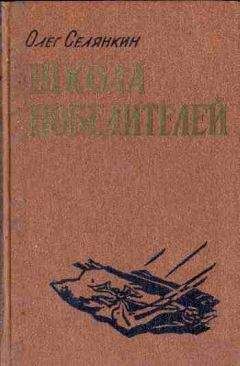— Только чтобы уход за ним был настоящий, — наконец говорит он, вытирая глаза. — Лично проверю!
Так и оказался Норкин на опустевшем тральщике Ма-раговского.
Ласковый солнечный луч настойчиво пытался пролезть под опущенные веки. Чтобы избавиться от него, Норкин шевельнулся и тотчас глухо застонал: волна боли обрушилась на раненую ногу.
— Что, товарищ комдив? — слышит Норкин чей-то знакомый голос и открывает глаза.
Над ним склонился Жилин. Лицо у него заспанное, измятое. На щеке заметен отпечаток пуговицы бушлата, который в эту ночь служил ему подушкой.
— Я тут задремал, — извиняется он. — Если что нужно, я в момент организую.
— Ничего не надо, Жилин, — отвечает Норкин и опять закрывает глаза. Как жаль, что все это сон… И горы, и мама, стоящая на крыльце…
— Может, нужда какая? — не отстает Жилин. — Тоже можем. Ребята ночью «судно» мобилизовали.
— Спасибо, Жилин, — сдерживая невольную улыбку, отвечает Норкин. — Вот попить бы…
— Чайку? Или молочка парного?
— Да где ты возьмешь молочка?
— Скажи пожалуйста, неужто уж и молока достать нельзя? Матросы-то без рук и головы, что ли? Ежели бы вы знали, как они инвентарь мобилизовали…
Норкин устал лежать на спине, шевельнулся и опять поморщился от боли. Жилин истолковал это по-своему, оборвал свой рассказ и сказал, подымаясь по трапу:
— Одним духом слетаю!
Где-то на берегу заливисто кричит петух. Ему отвечают второй, третий. Эта своеобразная перекличка растет, ширится, постепенно удаляясь от катера. Обыкновенное мирное утро на окраине провинциального городка. Норкин отчетливо представил себе маленькие домики, озаренные восходящим солнцем. Утренний ветерок чуть колышет занавески на окнах. Кое-где хлопают двери, и хозяйки, разомлевшие от сладкого сна, неторопливо приступают к своей большой незаметной работе.
А ведь еще вчера здесь все казалось вымершим.
Действительно, почему во время боев он никогда не слышал петушиного крика? Странно…
Норкин уже знал, что вчера в Пинске прекратилась перестрелка. Остатки недобитого гарнизона бежали на Кобрин, Брест. Бронекатера попытались по Пине преследовать врага, но вынуждены были отказаться от этой затеи: за годы войны мелководную Пину ни разу не чистили, она заросла травой, которая огромными пучками наматывалась на винты катеров. Как и предполагал Норкин, бригада остановилась. Над двухэтажным домом, стоявшим у реки, взвился военно-морской флаг. Здесь разместился штаб флотилии.
Почти всю ночь над землей рассыпались ракеты, почти всю ночь звучали песни. Это матросы и солдаты отмечали победу. А Норкин лежал на матросском рундуке и прислушивался к ликующим голосам. Потом в кубрик ввалилась целая толпа моряков, мелькнуло и Катино лицо.
Все побывали, а Катя так и не зашла в кубрик, будто избегает встречи с ним. Норкин вздохнул, закрыл глаза и задумался.
Вскоре пришел Жилин в сопровождении Василия Никитича. Чернышев, тщательно выбритый и надушенный, выглядел именинником. Осторожно пожав руку Норкина, он сказал:
— Поздравляю, товарищ капитан-лейтенант. Теперь я, так сказать, командир базы Бобруйско-Пинского гвардейского дивизиона.
— Так вы, Василий Никитич, меня или себя поздравляете? — засмеялся Норкин.
— Конечно, себя, — не смутился Чернышев. — Вас, небось, все поздравят, а кто вспомнит о каком-то командире базы? Да и стоит ли он того? Выдавал хлеб, считал портянки, собирал стреляные гильзы. — В голосе слышна обида. И не напрасная. Норкин согласен с Чернышевым. Действительно, поздравил бы он базовиков или кет? Пожалуй бы, забыл.
Норкину стыдно, он хмурится.
— Виноват, товарищ комдив, — неожиданно вмешивается Жилин. — Запамятовал и не сказал товарищу интенданту, чтобы он по такому случаю привел своих.
Второй раз матросы выручают его! Норкин от злости и стыда кусает губы. Чернышев смотрит на расстроенного комдива, на покаявшегося Жилина, расплывается в улыбке и говорит, стараясь скрыть охватившее его волнение:
— Пустяки, товарищ, комдив! Я ведь так… К слову пришлось… А матросам я обязательно передам, что вы хотели их специально вызвать. Сами увидите, как они радешеньки будут.
Посидев еще немного и пообещав забежать попозднее, Чернышев ушел.
На столе стоит большая кринка парного молока. Рядом с ней лежит вкусно пахнущая горбушка хлеба домашней выпечки.
— Жилин.
— Слушаю.
— Зачем ты соврал?
— Нельзя иначе, товарищ комдив. Вы за ранением, может, и забыли, а матрос любит, чтобы о нем помнили, — убежденно поясняет Жилин и, считая вопрос исчерпанным, уже тоном старой доброй няньки: —Чего не пьете-то? Самое парное. Можно сказать, при мне и доили… Или, может, чего покрепче? Там уточку или гусятинки?
— Откуда ты возьмешь?
— Так ведь место здесь дикое, раздолье для охотника, — поясняет слбвоохотливый Жилин, но смотрит куда-то мимо Норкина.
— Тоже мобилизовали?
— А если и так? — озлился Жилин. — Для себя, что ли? Да мы и на пшонке (чтоб ей сгнить на корню!) проживем! Неужто командира раненого нельзя побаловать? А хозяин этого гусака где? Кто он? Если свой человек — поймет, не осудит. Фашистский прихвостень, куркуль проклятый — так ему и надо, сатане лапчатому!
Со всем согласен Норкин. Не понял только, почему вражеский пособник — сатана лапчатый. Вперед, гвардия!
Давно выпито молоко. Не обойдена вниманием и тусятинка. Солнце не жалеет лучей, нескончаемым потоком шлет их на землю, и в кубрике становится душно. Норкин то и дело вытирает полотенцем пот, струйками бегущий по телу. Никто почему-то не заходит, и настроение портится, кажется будто нога чешется, кость мозжит. Заболели даже ребра, перебитые еще под Ленинградом. А тут еще и мухи. Они влетели в иллюминаторы и кружатся около лица, садятся то на лоб, то на щеки, то на самый кончик носа.
Обидно и за свою беспомощность, и за товарищей, которые так быстро забыли его. Один только Жилин терпеливо сидит с ним. Он даже пробовал читать вслух какую-то книжонку, в которой лихой писака заставил двух наших солдат принудить к сдаче почти роту фашистов, но то ли ему стало стыдно читать об этом, то ли по какой другой причине вскоре замолчал и он.
Случайный порыв ветра занес в кубрик звуки марша. Норкин приподнялся на локтях.
— Что там, Жилин? — спросил он.
— Партизан встречают.
— Чего же ты молчал?
— А зачем расстраивать?
— Кто есть на катере?
— Вахтенный.
— Тащите меня на палубу.
— Мигом, товарищ комдив! — Жилин подскочил к трапу, остановился, подумал и спросил — А как с медицинской точки зрения? Не вредно?
— Давай!
И вот Норкин уже лежит на надстройке кубрика. Здесь гуляет приятный ветерок. Омытый дождем, стоит город. Его железные и черепичные крыши яркими пятнами мелькают среди зелени деревьев. Флаги, флаги, цветы, хвойные гирлянды и снова флаги. Звуки марша, словно прорвавшиеся сквозь невидимую преграду, мощно и торжественно зазвучали над рекой. Из переулка на набережную выходит оркестр. За ним, неумело печатая шаг, идут люди в шинелях, немецких френчах, пальто и пиджаках, идут с оружием самых различных марок. Это проходят партизанские бригады, сжимая в руках оружие, добытое в боях. Казалось, сама грозная Беларусь вышла из болот и лесов.
Несколько часов шли колонны партизан.
А вечером, когда жара немного спала, к парку потянулись вереницы людей. Они провожали в последний путь героев, павших в боях за Пинск. Не играли оркестры похоронных маршей (не разучивали их), не было и огромных венков, увитых широкими траурными лентами. В простых, наскоро сколоченных гробах несли останки героев.
В парке гробы опустили в братскую могилу. Слетели с голов каски, фуражки, бескозырки и пилотки. Ясенев сказал короткую речь. Комья земли застучали о крышки. Взвод матросов вскинул винтовки. Грянул первый залп прощального салюта. И, вторя ему, дружно ударили пушки с реки. Над высоким холмиком склонились знамена…
Все это рассказали Норкину товарищи, которые под вечер все перебывали у него.
Уже после отбоя ушли от Норкина последние посетители. Норкин устало откинулся на подушки. Хоть и приятно товарищей видеть и чувствовать их заботу, но и утомительно.
— Стой, кто идет? — окликнул кого-то вахтенный.
— Свои, из госпиталя.
Норкин приподнялся и подоткнул под себя простыню. Этот голос он узнал бы из тысячи схожих. В кубрик, щурясь от яркого света электрической лампочки, вошла Катя. Черные глаза ее возбужденно блестели, на щеках играл лихорадочный румянец. Но голос ее прозвучал на удивление официально:
— Как вы себя чувствуете? Доктор Сковинский приказал мне навестить вас и сделать перевязку.
— А так, без приказания, не могла прийти? — вырвалось у Норкина.