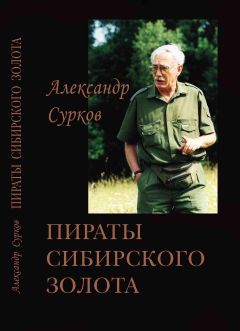Жухлицкий открыл шкаф, где хранилась одежда, и начал поочередно выбрасывать на пол части своего дорожного облачения — брюки, теплую нижнюю рубашку, куртку и прочее, вплоть до носков и портянок.
– Переодевайся, да побыстрей! — приказал он и торопливо вышел из кабинета.
Минут через десять, когда он вернулся, успев перео–деться для дороги, Бурундук, сопя, натягивал сапоги.
– Не налазят? — озабоченно спросил Жухлицкий.
– Маленько жмут,— поморщился Бурундук, встал и потопал ногами.
– Тише ты! — шикнул Аркадий Борисович.— Не в конюшне.
– Куда хоть едем–то, Аркадьрисыч?
– В Баргузин. Да положи–ка это себе в карман. Для сохранности. Постой, дай лучше я сам.
И Аркадий Борисович вложил в надежно застегивающийся карман надетой на Бурундука куртки бумагу, адресованную Центросибири.
Спустя четверть часа они бесшумно вывели коней через заднюю калитку, вскочили в седла и поскакали прочь от спящего в непроницаемой ночи Чирокана.
Незадолго до рассвета, преодолев длиннейший тягун, они поднялись на пустынное плоскогорье, каменистое, местами заболоченное, утыканное чахлыми кривыми деревцами. Невидимый туман, неся промозглую сырость, волнами катился через плато.
Аркадий Борисович, чуть поотстав от спутника, глянул на небо. Близость рассвета уже чувствовалась. Небо посветлело, потускнели звезды, помаргивающие сонно и равнодушно. Не один раз Жухлицкий проезжал через эту обширную, вознесенную к облакам равнину, ощущал, не мог не ощущать ее болезненную унылость, но вот эта ночная, предрассветная омертвелость всего окружающего была для него внове. Все здесь в этот час угнетало душу — и низко стелющийся сырой туман, и редкие полумертвые деревца, и неживое чавканье под копытами, и даже звезды — до того чуждые, до того далекие, что поневоле становилось ясно, почему обращают к ним свои морды воющие волки и почему столь безнадежно тосклив их вой.
Жухлицкий настороженно огляделся, хотя зряд ли кого могло занести сюда в такой час. Шагов на десять впереди мерно, в такт ровному бегу коня, покачивалась широкая темная спина Бурундука. То и дело с лязгом ударялись о камень подковы. Словно досадуя на холодный сырой туман, пофыркивали кони.
Постепенно Аркадий Борисович поджимался к Бурундуку. Когда до него осталось шага три, Жухлицкий вытянул из–за пазухи нагревшийся браунинг, большим пальцем сдвинул кнопку предохранителя и, тщательно прицелившись, вогнал ему пулю под левую лопатку. Лошадь Бурундука подхватилась, и сам он начал грузно заваливаться набок, но Жухлицкий был начеку.
Привязав лошадей к росшему возле тропы дереву, Аркадий Борисович подтащил труп и, стараясь не запачкаться в крови, переложил в его карманы свои бумаги, кое–какую мелочь, браунинг. После нескольких неудачных попыток Жухлицкому удалось накрепко засунуть ногу Бурундука в стремя. Теперь оставалось только проверить и подтянуть подпруги, вскочить в седло.
…Он галопом гнал впереди себя волокущую труп лошадь, стараясь выбирать наиболее каменистые места, и не мог никак отделаться от ощущения нереальности происходящего. Как и почему случилось так, что он, миллионер, бывший студент Марбургского университета, скачет, словно тать, по этой серой выморочной равнине, едва проступающей в свете занимающегося рассвета, а впереди него, испуганно храпя, несется лошадь, у ног которой волочится труп, дергается, корчится, словно от невыносимой боли, и бьется о землю размозженной головой, оставляя на острых камнях, осклизлых мхах, сухих стеблях горного кустарника, на выступах корней клочки волос, кожи, ошметки мозга и капли крови? У кого, в чьем воспаленном воображении родилась эта картина, достойная одного из кругов Дантова ада в изображении Густава Доре, и не черти ли кривляются за теми вон кустами, не перепончатые ли крылья нетопырей веют ему в лицо вместо встречного ветра, не серный ли дым преисподней стелется вокруг вместо тумана?..
Аркадий Борисович изо всех сил натянул поводья. Лошадь стала. Он вытер дрожащей рукой лоб, покрытый ледяным потом, помедлил и осмысленным взором глянул окрест. Причудливо и беспрестанно меняя очертания, ядовитым испарением исчезал с равнины туман. Уродливыми фигурами там и сям застыли корявые изломанные деревья; кусты, словно сбившиеся в кучу бесы, чернели настороженно и враждебно. Далеко впереди, по широкой дуге забирая влево, к тропе на Чирокан, уходила на рысях лошадь, утаскивающая обезображенный труп…
Задуманное совершилось. Для всего Чирокана, для всей Золотой тайги Жухлицкий теперь мертв. Никто не поскачет спешно в Баргузин, чтобы обвинить его в преступлении против республики, и не будет в ближайшие дни наложен арест на его банковские счета. И Сашенька беспрепятственно уедет теперь из Чирокана, чтобы навсегда соединиться с ним за пределами Золотой тайги…
Да, все сделано, все совершилось. Но ночь не уходила. Она еще жила, хоть и обратилась в серый пепел рассвета… Боже, когда же ты кончишься, ночь преступления, ночь взаправдашней для одного и ложной для другого смерти? Или день наступающий и все другие грядущие дни не для него теперь? Но нет — там, далеко за восточным краем неба, что–то наконец прорвалось, и вымахнуло оттуда сияющее крыло нового дня. Вымахнуть–то вымахнуло, однако было оно, крыло это, ослепительно алого цвета — цвета знамени трижды проклятой босяцкой республики…
Чуткий, как рысь, Очир почуял неладное сквозь сон. Открыл глаза, прислушался. Так и есть — под стеной легонько прошуршали шаги. В темном окне, выходящем на улицу, возникла смутная тень чьей–то головы, чуть помедлила и исчезла.
«Наверно, Васька»,— подумал Очир, начинавший свыкаться с ночными шастаньями Купецкого Сына. Однако шаги, чуть спустя послышавшиеся уже со двора, принадлежали нескольким людям, которые ступали крайне осторожно, и это заставило Очира сразу обеспокоиться за лошадей. Он бесшумно соскользнул с лавки и сбоку, вплотную прижавшись к стене, выглянул в окно. Было слишком темно, чтобы увидеть происходящее во дворе, однако кое–что Очир заметил. У крыльца, сбившись в черную кучу, стояло несколько человек. Потом от них отделились две тени и медленно, явно стараясь не шуметь, стали подниматься по ступенькам.
Сжимая в руке маузер, Очир на цыпочках подбежал к Звереву и тронул его за плечо.
– На улице много людей стоит,— зашептал он.— Пришли, как воры. Наверно, плохие люди…
Между тем уже стучали — спокойно, не тихо и не громко.
– Что надо? — спросил Очир, приоткрыв дверь в сени.— Почему ночью ходишь?
– Отворяй, чего боишься,— на крыльце добродушно хохотнули.— Председатель где? Дело к нему.
– Хозяин уехал.
– Ну, все одно отворяй — переночевать надо.
– Х озяин нет, ничего не знаю.
– Не валяй дурака! Друг я Турлаю, понимаешь? Друг!..
– Не надо кричать,— Очир тянул волынку.— Ты будешь кричать, я буду кричать — ссора будет. Нехорошо!
– Да ты изгаляешься, что ли! — разозлились за дверью.— Отворяй, не то дверь вышибу!
– Я буду мало–мало стрелять,— самым мирным тоном предупредил Очир.— Ты плохой друг. Хороший друг не ходит, как вор. Уходи!
На крыльце помедлили, затем в дверь с силой шибанули чем–то тяжелым. Очир выстрелил — кто–то вскрикнул, выругался, и тотчас загремели ответные выстрелы.
Очир быстро захлопнул дверь, ведущую в сени, и запер ее на крюк. Оглянулся. У дальней стены шевельнулся невидимый Зверев.
– Осторожно, Очир, — сказал он.— Будут стрелять по окнам.
Как бы в подтверждение его слов, со двора и с улицы бегло ударили по окнам — судя по звуку, из револьверов и винтовок. Зазвенели разбитые стекла. Взвизгнули, рикошетя, пули. Очир бросился на пол. Зверев, чуть замешкавшись, тоже лег под стеной, держа в поле зрения окно, выходящее во двор. В сенях что–то загрохотало, и одновременно за стеной, где жили многодетные Карпухины, поднялся разноголосый детский рев. Зверев вспомнил, что сам Карпухин уехал с Турлаем на прииски Шушейтанова, и, стало быть, с детьми сейчас одна мать. «Не выскочил бы кто из них с испугу прямо под шальную пулю»,— со страхом подумал Алексей.
– Гражданин Зверев, благоразумнее сдаться! — донеслось из–за разбитых окон.— В этом случае гарантирую жизнь.
– Что вам угодно? — помедлив, крикнул Алексей. — Нам угодно немедленно произвести в доме обыск!
– Отложите вашу затею до утра!
На некоторое время наступило затишье, если не считать того, что за стеной по–прежнему голосили дети.
Внезапно в сенях послышались шаги, дверь с силой рванули, а затем на нее обрушились хрусткие удары. Алексей поднял винтовку и два раза выстрелил в дверь. Удары тотчас прекратились, послышались невнятные голоса, и в сенях стало тихо. По окнам тоже больше не стреляли. Видимо, нападавшие совещались.
Постепенно положение стало представляться Звереву не таким ужасным, как в первые минуты. В окна, небольшие и расположенные довольно высоко от земли, вряд ли рискнут лезть. От попытки взломать дверь ночные посетители, должно быть, отказались, убоявшись выстрелов изнутри. Зверев почти успокоился. Тревожил только крик за стеной.