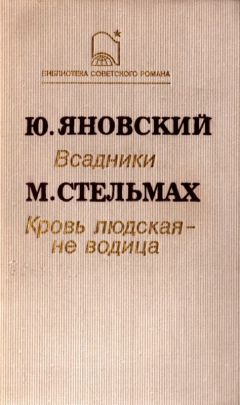Еще не доходя до хаты, оп услышал в ней детский смех. И этот смех так поразил его, что Свирид Яковлевич стал у ворот, задыхаясь, не в силах понять, не помутился ли у него разум. Но снова послышался детский смех и незнакомый мелодичный женский голос. Свирид Яковлевич со страхом переступил порог, отворил дверь в хату. На лавке, согнувшись, сидела худенькая, золотоволосая женщина, на коленях у ней агукал белобрысенький малыш. Женщина увидела Мирошниченка, поднялась, испуганная улыбка мелькнула на ее скорбно-прекрасном лице. Она шагнула навстречу Свириду Яковлевичу, крепче прижала к себе ребенка.
— Свирид Яковлевич, простите, что к вам… Никого больше нет на свете, кто бы мог помочь моему горю. А о вас я наслышалась от людей… — На глазах, похожих на спелые черешни в утренней росе, дрожали слезы.
Ребенок повернул голову к вошедшему. Свирид Яковлевич смущенно протянул руки; мальчик, радостно морща носик, сразу потянулся к нему. Мать поправила байковую пеленку, отдала сына Мирошниченку, не зная, что ударила его этим в самое сердце.
Свирид Яковлевич ходил по хате, а женщина со слезами рассказывала, как мужа ее взяли в губчека. Она все, все выложила о своем Даниле, которого Свирид Яковлевич помнил, поведала, как они решили не скрывать ни одного греха, чтобы не мучиться. Они так надеялись, что новая власть даст ему очиститься!
И Свириду Яковлевичу верилось, что эти люди не могли замышлять дурное.
Он внимательно выслушал Галину, коротко сказал ей:
— Я не знаю, сумею ли по-настоящему помочь вам. Но сегодня поеду в губком, поговорю с одним очень хорошим коммунистом, он тоже когда-то хотел учителем стать. Надеюсь, он вам поможет.
— Спасибо, Свирид Яковлевич. — Женщина приложила руки к груди.
А Петрик тем временем повертелся-повертелся, потер пальчиками глазки, стал засыпать. Свирид Яковлевич, скорбно присматриваясь к его личику, еще тише заходил по хате и вдруг чуть слышно запел песенку о птицах своего детства…
Ветер помешивал тяжелые воды реки, подымая глухой шум и взбивая зеленоватую вязь пены. За рекой, над Ивчанкой, расплеталась ветвистая туча, и над самой землей ее дымчато-сиреневая крона пролилась дождем.
— Славный пошел дождик на Ивчанку. — Семен Побережный весело прищурился из-под нависших бровей, привычно орудуя веслом.
— Славный. Только бы тепло еще постояло, — поддержал его и Руденко, глянув на потемневшее небо.
Только Мирошниченко, пригнувшись, молча смотрел на смолистое дно лодки, облепленное ряской и рыбьей чешуей. Для его увядших за последние дни глаз простор стал нестерпим; горизонты, хмурясь, надвигались на Свирида, как в сумерки. А мысли все возвращались к тому клочку земли, где под вишенками лежат его дети. Он уже обложил их могилку дерном, посадил маргаритки, которые принес когда-то вместе с георгинами с господского двора. Он взял за свой труд у помещика только цветы, чему немало дивились односельчане, не пощадившие ни дворянской экономии, ни дворянских палат.
Руденко поглядывал на Свирида Яковлевича с сочувствием, старался отвлечь его тяжелый взгляд от лодки. Иван Панасович отпросился у председателя уисполкома на несколько дней в Новобуговку, чтобы побыть с другом. За это даже его жена, которая все еще жила в одном из дальних сел уезда, не ворчала на него, только укорила мягко: «С этой работой да с дружбой совсем ты, Иван, отбился от семьи, от земли». — «Так уж и отбился, — отвечал муж. — Сколько же я могу просить: переезжай ко мне!» Но жена не соглашалась: «Мне переезжать нечего: тут моя родина, тут моя земля. Я на привозном да покупном не проживу. Служба что ветер — невесть куда подует. Нет лучше службы, чем земле служить». Потому и вышло, что она последнее время жила как вдова, а он как бобыль…
Днище лодки заскрипело на песке, врезалось в берег, и Руденко, придерживая деревянную кобуру маузера, первым выскочил на берег. За ним прямо на пенный барашек поставил ногу Мирошниченко.
— Вас подождать? — спросил с лодки Побережный.
— Поезжайте, если дело есть.
— У меня теперь одно дело — рыба. Полдесятины новехонькой, слава богу, засеял уже — и довольно. Подойду к ниве, протяну руки, а от ней теплее дух, чем от других, — разговорился молчаливый рыбак.
— В самом деле теплее? — лукаво подсмеивался Руденко.
Вокруг его носа пришли в движение неглубокие оспинки; они не портили спокойный овал лица, только приблизили кровь к коже, потому и зимой и летом, в радостные и в тяжелые минуты лицо у Руденка пунцовело.
— Своя земля, как дитя родное, всегда дороже. — Побережный вскинул на лоб тяжелые, словно лепные, брови. — Пока не было поля ни перед очами, ни за плечами, так нечему было и радоваться. Это ведь хлеб ненадежный. — Он поднял весло, и вода с него потекла в реку и в рукав. — Однако я весь век отбивался им от нужды, даже на лошадку скотте. — Взгляд у рыбака потеплел. — Ну, приезжайте вечером на уху. — Побережный оттолкнулся от берега, и лодка запрыгала по волнам, как черный нырок.
— Хорош твой рыбак, Свирид, — снова попытался развлечь друга Руденко.
— Честен до последней крошки, а упрям, как кремень. Когда из Ивчанки отступали австрийцы, не захотел, чтобы проходили через его село. Притаился на берегу и давай бить ложкой по пустому ведру. Да так ловко, что даже австрийские пулеметчики не отличили ведерную дробь от пулеметной.
— Что ты говоришь! — улыбнулся Руденко, обрадовавшись, что его друг понемногу втягивается в беседу.
— Правда. Так и обошли тогда австрийцы наше село. Вот и пойми его. Спокойнее, чем Семен Побережный, у нас человека не найти. Это верно, что он весь век веслом от нужды отбивался. А тут на тебе, один пошел на врага. Да с чем? С ведром! И люди так бы про то и не узнали, не расскажи им Уляна Завирюха. Она как раз была в поле и помирала со страху, думая, не скосят ли австрийцы пулей и Семена и ее.
— Соверши такое Кульницкий — об этом давно Москва знала бы, не говорю уж об Одессе. В полководцы бы выскочил! — Руденко снова улыбнулся и нахмурился. — Дальше уезда не выезжает, кроме кожаных лат, ничем не знаменит, живет одними речами да нагоняями, а тоже деятеля революции из себя корчит.
— Чего вы не прогоните его?
— А ты поймаешь вьюна голыми руками?
— Вряд ли.
— А Кульницкий и есть вьюн. Умный, жестокий, нахрапистый. На ходу подхватывает чужие мысли и подымает их на всю губернию либо приноравливается к ним, как ему выгоднее. Этот из тех, кто в одно ухо влезет, в другое вылезет.
— Ну, пока он в уши влезает — это еще полбеды. А что, если он в сердце влезет, да не вылезет? — Мирошниченко твердо глянул из-под набрякших век в глаза другу.
Тот даже остановился, пораженный его словами. Но тут же подумал: а что, если они преувеличили недостатки Кульницкого? Чужие грехи всегда кажутся тяжелее.
— Он больше в печенках сидит. До сердца ему далеко, да и ростом мелковат.
— Иголка тоже невелика, а попадет в кровь — и не знает человек, что смерть в себе носит. Ты Иван, подумай про Кульницкого, приглядись к нему. Правда, может, я и наговорил на него лишнее, больно уж задел меня за живое. Может, он просто карьерист, и все.
— А ты знаешь, что Ленин сказал о карьеристах? У них нет никаких идей, у них нет никакой честности… К Кульницкому я пригляжусь, жаль, далеконько он от меня. А теперь поищем, где же банда Горицвита перехватила.
Они расходятся и бредут по берегу, рассматривая следы. Обошли гранитную скалу, поднявшуюся над землей, как стиснутый мускулистый кулак.
Между пальцами у нее, словно живое красное знамя, покачивался куст рай-дерева.
Руденко залюбовался деревцем.
— И выросло чудом, и держится чудом.
Прошли еще немного, и на заросшем кустиками берегу заметили множество следов и стреляные гильзы.
— Вот отсюда бандиты стреляли по бедняге. — Свирид Яковлевич вздохнул.
Они побродили у воды, потом поднялись наверх, в поля. Там, на жирном черноземе, было много следов от копыт. Внимание Руденка привлекли две колесные колеи.
— Верно, бричка атамана или, скорее, того, кто привел сюда бандитов.
— В этот день куда-то выехал на бричке Варчук. Людям говорил, что к фельдшеру. Только к какому? — Глаза Мирошниченка сузились.
— А он вернулся от своего фельдшера или все еще лечится? — заинтересовался Руденко.
— Кажется, не вернулся.
— На левой передней ноге лошади разболталась подкова. — Иван Панасович показал на четко очерченный след. — На всякий случай сделаем оттиск. — Он очертил след носком сапога и пошел дальше. Его все больше занимал след брички, вернее — неровности правой колеи. — На правом заднем колесе, кажется, перекосилась шина?
Свирид Яковлевич присел над следом, удостоверился, что и в самом деле на оттиске остались причудливые узоры от сдвинутой шины.