— Если нужно будет, позвоните. Сестра за вами посматривает.
В бреду Быстрову мерещился товарный вагон с ранеными. Темно и душно, запах прелой соломы.
— Сестра, дай попить.
— Милые мои, не могу. У меня список, которым никак пить нельзя, а в такой темноте я ничего не вижу — ни людей, ни списка…
— Всем давай, какая разница!
— Не дам воды, никому не дам, пока света не будет. И вы меня не мучайте, плакать мне, что ли?
— Ладно, сестра, никому не давай! Не подохнем.
Началась бомбежка. Паровоз остановился на узкой лесной прогалине, ходячие повыскакивали и вместе с поездной бригадой скрылись за полотном. Лежачие оставались и с тревогой ждали очередного захода самолета, но все в один голос, грубовато, требовательно уговаривали медицинскую сестру:
— Бросай все к черту и в лес беги, быстро!
— Нет, — кричит. — Тут мой пост!
— Какой тут пост! Не будь дурой, умереть еще успеешь, может, с пользой, беги, сестра!
Вагон покачнулся, но остался на рельсах, и тут тонкий, с надрывом голос медицинской сестры:
— В ведро угодило, дно пробило, вода разлилась. Что я теперь…
— На черта тебе это ведро! Не дури, бога ради, — в лес беги. Ты еще нужна людям, поняла — людям!
— Нет, с вами я. Тут мой пост.
Бредовые воспоминания прервал высокий, чрезвычайно худой, в белом халате, почти прозрачный старый человек, с прямыми тонкими усами, с уставшим и сердитым взглядом.
— Я хирург. Ты вызывал?
Обращение на «ты» было необычным, шокировало сорокалетнего Быстрова, оскорбляло, но прибывший — назовем его Николаем Наумовичем — не оставил Быстрову времени для отповеди, он обезоружил и парализовал какой-то особой, откровенной, его собственной, упрощенной правдой:
— Немцы тебе ноги перебили, ты с ними и рассчитывайся как умеешь. С бабами и стариками в госпиталях воевать просто. А ну скажи, почему немцы у Воронежа, на Волгу нацеливаются? Стыдно мне за вас, стыдно!
Отхлестав, как провинившегося школьника, старик вышел из палаты и не возвратился.
Первое — это чувство обиды. Второе — почему этому бешеному старику на дверь не указал, если достойных слов не нашел? И почему эти слова не нашлись, куда они запропастились, в военной обстановке такие обыденные?
Думать не хотелось, но в воспаленном мозгу невольно копошились раздумья о причинах наших неудач, а еще больше — поиски оправданий. В хаотичном беспорядке возвращалось пройденное — вера и надежды, сомнения, имена мужественных людей, в самые мрачные дни не терявших веру в победу, вспоминались медицинские составы госпиталей, милые и дорогие люди, и только этот ночной пришелец оставался загадкой, как и беспомощность самого Быстрова перед ним…
Прошла наконец и эта ночь, еще одна тяжелая госпитальная, и утреннее оживление отдельными фразами проникало в изолятор, оповещая о наступлении нового дня, с его заботами, обобщая итоги минувшей ночи.
— Под утро приходил, злой, не дай бог, — слышалось.
— Дежурного врача не застал, в кабинете все документы раскидал, сестру обругал и того нового, в изоляторе…
— Он дома и не был. Разыскивали его и звонили. Сказали, в другом госпитале — по срочному вызову умирающего раненого спасал. Когда ничего больше не оставалось, на невиданную ранее операцию решился. Операция не удалась, раненый скончался, и тогда, в сердцах, он сюда и пришел.
— Будет вам теперь на орехи! Всем достанется в понедельник.
— В понедельник? Недели две зверем будет.
Это о хирурге. А потом чей-то слащавый голос внушал:
— Напишите, жалобу подайте. Он вас оскорбил, и хотя температура сорок один была, даже смотреть не стал. Вы только напишите, а я передам кому надо…
Быстров не взялся бы утверждать, действительно ли были эти слова сказаны кем-либо или пришли в бреду. Но точно помнил, что возражал: «Жалобу? Нет, сам обругаю!»
Потом еще день и еще одна ночь, многие часы спокойного сна (после введения морфия с вечера и вскрытия нарывов ночью) принесли необычайно радостное настроение, и даже тот злой ночной гений, стоящий в такую рань у его кровати, предстал в ином облике — заботлив был и даже приятен.
— Как спалось, молодой человек?
— Не молодой, допустим, но спал. Морфий с вечера…
— Знаю. Эта зеленая жижа давно из левой?
— Да, временами обильно…
— Под эфиром сколько раз оперировали?
— Четыре.
— Пятой операции не миновать. Сегодня ты эфира не выдержишь, а через пару дней вырежу.
— Что?
— Испугался? Не там, пониже возьму. А пока пойдем!
— Я же ходить…
— Эх, забыл: безногие вояки! Рикшу тебе подам женского рода. Сам переберешься или переносить?
— Сам, правая рука у меня сильная и левая уже ничего.
— Сильная, говоришь. А ну подай, попробую.
И этот старый и худой, на вид изнуренный человек сжал действительно очень сильную руку Быстрова необычайно мощно.
— Ну как, потекла влага? Ты еще ничего, а есть которые маму вспоминают.
— Я вашу руку щадил, доктор.
— Мою? Ну и хвастун!
В перевязочной операционная сестра сняла только наружные бинты. Тампонов не тронула — этого, как потом убедился Быстров, Николай Наумович никому не доверял. А с какой ловкостью управлял он сложным для одного человека старинным рентгеновским устройством!
— Такой он, неугомонный, — рассказывала пожилая санитарка, — и добрый он, но ругатель, не дай господи! Требует, чтобы все точно по нему было, как сказано. Чтоб до него раненого никто не осматривал, бинтов не снимал, и после операции тоже первую перевязку делает сам. И не смей раненого в операционную внести, пока он своего места у изголовья не занял. Приметы у него свои и, бывает, иной раз раненого вовсе не принимает — назад, кричит, сейчас же назад! Пройдет это у него, и тут же потребует, чтобы поскорее доставили.
— Причуды?
— Там как хочешь! Приметы у него свои, и он своим приметам верит. Однажды — это давно уже было, — его не послушались и начали уговаривать — «нельзя, мол, откладывать, прямо с самолета взяли, раненый при смерти». Согласился он тогда, но когда к столу подошел, так тот раненый не то что не живой, остывший. Сами не доглядели, труп в операционную доставили. И Николая Наумовича в такую свирепость ввели. Теперь не пристают и не советуют — отучил. По ночам покоя не знает, по другим госпиталям выезжает, как молодой какой, где трамваем, где метро, а где и вовсе пешком. Мыслимо ли такое в его годы!
Хотя и малое, но личное знакомство с Николаем Наумовичем и рассказы третьих лиц начали создавать новый его образ, и вместо ночного пришельца-грубияна вырисовывался перед Быстровым крупный ученый-хирург с суровым спартанским нравом, патриот, не знающий отдыха и не терпящий никаких слабостей и нытья.
К исходу дня Быстрова подготовили к операции. Обрили ноги, промыли спиртом, йодом, забинтовали и вскоре после утреннего подъема — по часам в госпиталях время довольно условное — повезли в операционную. У самых дверей небольшая заминка, привычная уже:
— Погляди, там ли он и как он?
Знакомая санитарка, смелее других, взглянула одним глазом в щелочку.
— Там, у той стены, у изголовья. По моим приметам, мы в самый раз.
В операционную вошли тихо и трепетно, как верующие заходят в святой храм. В дальнейшем — как заведено — брезентовый ремень на лоб, правую руку к операционному столу пристегнули и еще одним ремнем стянули ноги повыше колен, надежно, как капризную лошадь при ковке — не хватишь зубами и ногой не лягнешь! Ну маска еще, само собой, и вытянутая вдоль туловища левая рука — для контроля.
— Больной, считайте до десяти.
После многократного применения эфир не усыпляет сразу, душит, и Быстров, задыхаясь, остановился на третьем счете, умолк.
— Готово, больной уснул.
— Ничего я не уснул, слышу, как доктор руки моет.
— Добавьте еще двадцать пять!
…Быстров очнулся опять в том же изоляторе-одиночке, все так же надежно привязанным к кровати-каталке. Горели ноги и нестерпимо хотелось пить. На ощупь, свободной левой рукой, нашел звонок — стакан с ложкой. Вскоре прибежала сестра:
— Очнулись? Давайте снимем ремни, ни к чему они теперь.
— Я пить, пить хочу!
— До утра вам пить нельзя. Хотите пососать влажную марлю?
— Это еще для чего?
— Полегчает, утоляет жажду.
И он сосал марлю, увлажняя ее слюной и, кажется, жажда ослабевала, но по-прежнему нестерпимо горели ноги.
Ранним утром в добром и шутливом настроении зашел Николай Наумович.
— Ну, очухался, матерщинник?
— А кто же здесь матерщинник, если не вы?
— Как изворачивается! Может, тебя я раз и обложил, а ты меня часа три крыл. Это как называется?
— Сами напоили.
— Ноги как?
— Печет, сил нет.
— Потерпи, не ты первый, не ты последний. Сегодня обратно в палату, а на пятые сутки проверю. Вот и добро твое. — И он передал Быстрову чугунные осколки. — Два из левой и шесть из правой, храни, если хочешь.
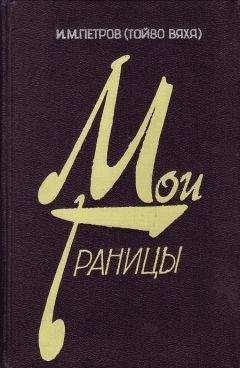

![Филип Фармер - Отвори, сестра моя [= Откройся мне, сестра моя; Отвори мне, сестра…; Брат моей сестры; Необычайное рождение]](https://cdn.my-library.info/books/91028/91028.jpg)

