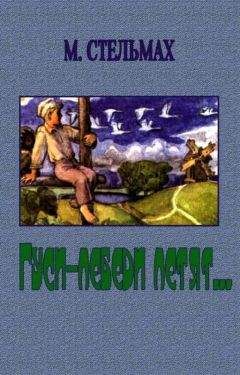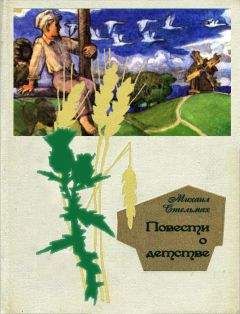— Пошел мой батюшка с горохом на торг, знать, вернется только вечером.
— А почему только вечером?
— Да он раньше никак не сложит цены тому гороху, просит за него, как за черный перец, — и малый молотильщик начал загонять кудри в шапку. — А тебе не хочется на торг?
— Перехотелось. Наторговался, — мрачно говорю я, вспоминая свои злосчастные «Три сумки хохота».
Гива пристально посмотрел на меня и рассудительно сказал:
— А твоему, парень, горю, если крепко подумать, можно помочь.
— Поможешь, когда в кармане даже ветер не хочет свистеть, — безнадежно вздохнул я. — Опять сунулся было на вышки, нашел новое гнездо пеструшки, а под ней, хитрюгой, уже цыплята проклевывались.
— И ты не понес их лавочнику? — засмеялся Гива.
— Нет, побежал в дом. Вот была радость! Мать уже думала, что хорек или собака съели пеструшку.
— А ты очень хочешь иметь книги?
— И не спрашивай, — погрустнел я.
— Так мы разживемся на них, — запрыгали бесята в насмешливых глазах Гивы. — Вот я тебе на Пасху настоящую кумерцию сделаю.
— На пасху?
— Да. Этот рыжий черт, который продал тебе «Три сумки хохота», на пасху берет не только целые яйца, но и битые: он очень лакомый к яйцам — накрошит их в миску, посолит и ест ложкой, как кашу. Сам видел!
— Ну и что? — никак не могу понять, куда тянет Гива веревочку.
— Что? Вот за пасхальные битки и накупишь себе книг.
— Где же я этих битков наберу?
— Натолчем на кладбище! — уверенно говорит Гива. — Я тебе к Пасхе сделаю вощанку, и ты ею раздобудешь целую сумку яиц, что сумку — целехонький мешок!
— Не надо мне мешка.
— Ну, это уж сам смотри, сколько тебе надо. Главное — я тебе сделаю настоящую кумерцию, а не только что куп, то и луп! — засмеялся и махнул цепом Гива.
В пасхальный четверг мы в нашей риге тайком взялись за работу. Гива осторожно цыганской иглой просверлил в яйце дырочку, воткнул в нее стебелек метелки и высосал белок и желток. Дальше мы уже в Гивином доме разогрели комок воска и, щипая его, начали раскатывать тоненькие-тоненькие ниточки. Ими мы наполнили пустое яйцо и поставили его носиком вниз возле огня. Когда воск растаял, яйцо охладили, покрасили и возгордились: вощанка вышла на славу! Берегитесь теперь лавочниковы книги — не миновать вам моих рук!..
Вот и пасха сверху зазвонила во все колокола, а внизу расстелила веснянки. В церкви выстаивала старость, возле церкви встречалась молодость и любовь, а под ними забавлялось наше детство. Около мощных церковных ясеней я встретился с Гивой. Он вскинул вверх ресницы и брови, покосился на мою вощанку и шепотом спросил:
— Сумку захватил?
— Зачем?
— А куда будешь класть битые яйца?
— В карман.
— Эт, нет у тебя, как говорит Юхрим, соображения ума. Сколько их в карман положишь? Да и разобьются они там в кашу. Я хотел тебе настоящую кумерцию сделать, а ты… — и он недовольно поворачивается к своим товарищам.
Первым ко мне подскочил Колин Иван. Он крепко зажал в руке яйцо, окрашенное отваром ольховой коры, и живо спросил:
— Потолкаемся?
— Да нет, подожду, — неохотно говорю, потому что разве же можно обижать своего соседа? Как-ни-как, а у меня же вощанка.
— Кого же ты будешь ждать? Может, вчерашнего дня? — смеется Иван. Он уже успел набить полный карман биток. — Может, дрожишь над своей? — показывает одним глазом на мою вощанку.
— Чего мне дрожать?
— А может, она тебя родила? — хихикая, допекает коренастый Иван, а вокруг его веселого вздернутого носика выбиваются и исчезают две ямки.
Я начинаю лезть в трубу:
— Если так, держи свою!
— Держу и трепещу! — смело подставляет кулак со своим яйцом.
Я слегка бью по яйцу Ивана, но ни его, ни мое не поддаются. Тогда я бью сильнее, — и паучки трещин расползаются и по моей, и по Ивановой вощанке. Мы сначала с сожалением смотрим на руины своих ухищрений, а дальше начинаем смеяться — Иван становится веселее, а я грустнею, потому что сразу пропала надежда на книги, лежащие себе промеж железяками, синькой и суриком, не зная, как по ним разрывается чья-то душа. Даже настоящая Гивина кумерция не помогла. Если не везет, то не везет!
Поэтому и пришлось мне сегодня обратиться к бывшему помощнику писаря Юхриму Бабенко, которого люди за глаза называли пройдошным, непутевым, быстроглазым и распронесущим сыном. Но это не мешало Юхриму думать о себе, что он умнее всех в селе, и ждать своего часа. Он все хотел вырваться в любое, лишь бы начальство, и где мог исподтишка кусал и оговаривал тех руководителей в свитках и шинелях, которые, едва умея расписаться, в революцию расписывались за новую власть своей кровью. Единственное, что было хорошего у Бабенко, — это почерк. Удивительно было, как артистично красивые буквы содержали разную нечисть, которую измышляла Юхримова голова.
Сейчас Юхрим, щеголяя писарской ученостью, заносится среди парней, щелкает семечки и подсмеивается над девушками, которые, напевая, «сажают васильки» — зелье юности. Это только в песне такое может быть, что сначала девушка сажает цветок любви, потом поливает, а дальше — уже берет цветок в свой венок молодости и с ним идет к суженому.
— Дядя Юхрим, — с опаской трогаю парня за не простецкое, а с мудреным вырезом галифе, в карманах которого поместилось бы по хорошему поросенку. Тогда у нас пошла мода на галифе — чем больше, тем лучше.
— Ты языком говори, а рукам воли не давай: они у тебя земляничным мылом не пахнут. — Юхрим предостерегающе поднимает палец правой руки, а левой поправляет свое обиженное галифе. — Чего тебе, нечестивец? Может, по параграфу похристосоваться хочешь?
— Нет, — растерянно смотрю на округленные щеки и подбористые губы парня.
— Так чего же приперся? Какое соображение ума имел? — сам с удовольствием прислушивается к своей речи.
— У вас книги есть?
— Для чтения или с размышлениями?
— Нет, может, есть без размышлений.
— Все у меня есть, но что тебе от этого, малявка? Ведь сватами мы, раскидываю мозгами, не можем быть.
— А почему? — смелею я. — Может, на чем-то и сойдемся?
— Разве что на ремешке, — веселеет парень. — Соскучился, натурально, по нему?
— Не очень. И какие у вас есть книги?
— Возможные и даже невозможные, — что-то вспоминает Юхрим и гигикает. — Но я знаю, что тебе больше всего подойдут «Приключения Тома Сойера». И они есть у дядьки Юхрима.
У меня аж в груди екнуло, потому что сколько я слышал о тех необыкновенных приключениях, и вот напал на их след. В моих глазах начинает светиться жалостная просьба, и я подделываю свои слова под Юхримовы:
— Дядя, а вы мне, натурально, не можете дать «Приключения Тома Сойера»? Возможна или невозможна такая возможность?
Но этим старанием я только повредил себе: Юхрим сразу насупился, а голос его заскрипел, как калитка:
— Насмешечки, заводила, начинаешь строить над старшими? Где ты взялся такой вертихвост? Смотри, чтобы сейчас неудобно тебе не стало!
— Какие насмешечки? Что вы, дядя! Разве можно насмехаться над старшими, да еще в пасхальные праздники?
Речь моя была, наверное, такой чистосердечной, что Юхрим немного успокоился,
— Есть же такие невоспитанные, не имеющие ни понятия, ни элегантности, а только и соображают насмешечки себе, — на кого-то сердятся глаза и губы, окантованные грубыми каемочками.
— Да, — соглашаюсь я. — Так дадите мне «Приключения Тома Сойера»?
— А зачем они тебе?
— Читать.
— Читать? — пожимает узкими плечами парень, как будто я что-то несусветное сказал, и выбирает из горсти подсолнечных семечек одну тыквенную. Она наводит его на какую-то мысль, и он наклоняется ко мне: — Хорошо, дам тебе, малявка, почитать книгу, но принеси за это в благодарность дяде Юхриму четыре стакана тыквенных семечек. Меряй точно, я буду перемерять. У меня так, нашармака не выскочишь.
Надежда моя расползается по кладбищу, но я хватаюсь за ее обрывки:
— Дядя Юхрим, так, может, я вам эти семечки осенью принесу, а то где их теперь достанешь?
— До осени и книга полежит, не бойся, мыши ее не истребят. Помни: дядька Юхрим, натурально, любит жареные тыквенные семечки. — Он отворачивается от меня, щеголевато поправляет галифе, картуз и начинает скалить зубы до девушек.
А ты стой на кладбище и ломай себе голову, где достать семечки для Юхрима, чтоб ему одни только тыквы иметь от девушек. Нет, таки невезучим родился я, и все. Недаром же мать говорит, кто родится в мае, тот всю жизнь маяться будет. И на какое-то время померкла моя пасха, пока я не забрался с такими же, как сам, куролесниками на колокольню. Тут уж мы всласть роскошествовали возле колоколов, и уши остались цели: на пасху даже звонарь считается с нашими ушами и чубами…
Сразу же после праздников я заметил, что мать, перед тем как надеть блузку, подвязывается чем-то полотняным, похожим на длинную узкую сумку.