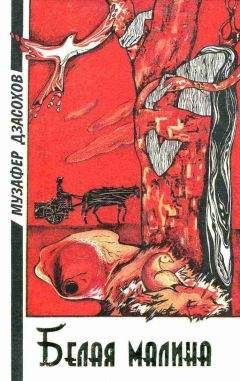Вода замутилась. Я был весь в грязи и в тине. Надо бы одеться во что похуже, а я надел свой школьный костюм. Теперь же этот костюм превратился в тряпку.
Я сполоснул в озере штаны и рубашку, расстелил их сушиться на солнце. А сам в одних трусах уселся в тени и стал раздумывать. Если бы меня сейчас увидела Дзыцца, уж и попало бы мне! И за одежду, и за то, что, не спросившись, ушел из дому, и за то, что в илистую воду полез…
Потом встал, подошел к своей одежде. Грязные пятна, там, где подсохло, стали еще отчетливей. Прополоснул второй раз и снова расстелил сушиться.
Вокруг росло множество ромашек. Я сорвал одну и решил погадать — будет ли Дзыцца меня бранить или нет?
— Побранит — не побранит… — начал я, отрывая лепесток за лепестком.
Чем меньше лепестков оставалось, тем тревожней становилось на душе, тем слабее голос.
— Побранит — не побранит… Побранит — не побранит…
С ромашки упал последний лепесток.
— Побранит…
Я и без гаданья знал, что мне достанется. И не только от Дзыцца — Бади и та будет на меня коситься. А может, еще раз погадать?
Я сорвал несколько ромашек и лег в тени. Снова сыплются лепестки.
— Побранит — не побранит…
Выходило и «побранит» и «не побранит». Устав от этого бесполезного занятия, я отшвырнул ромашки и глубоко вздохнул:
— Поди разберись тут, чему верить…
Мне надоело смотреть на свою мокрую одежду. Я повернулся на другой бок, подложил кулак под голову и стал рассматривать травинки. Вон по одной ползает муравей — вверх-вниз, вверх-вниз… Будто боится потерять свой след. Вверх-вниз, вверх… Смотрел, смотрел да и заснул.
Вдруг меня словно подбросило, какой-то выстрел разбудил меня — видно, где-нибудь охотник выстрелил в зайца, здесь же Кобошов лес рядом. Вскочил, гляжу вокруг — где я? Почему я в одних трусах? Озеро… грязные штаны… грязная рубашка… Тут я вспомнил все. Настроение мое испортилось.
Вещи мои просохли, я быстро оделся и пустился в обратный путь. Солнце было уже в зените, когда я примчался домой. Вернее, не домой, а к нашему роднику. Я сел около родника, чтобы отдышаться. Вижу, по тропинке идут Агубе и Хаматкан. Несут охапки кервеля[5] и с аппетитом жуют зеленые стебельки. Как будто на лугу не наелись!
— Привет водовозам и соням! — издали крикнул Хаматкан.
— А почему бы и не дрыхнуть ему, привык на всем готовом, — добавил Агубе. — За два дня загнал Дудтула, а сам сидит себе спокойно. Подумаешь, сторонится, никто ему не нужен…
Подошли и стали около меня. Агубе кинул к моим ногам несколько стебельков кервеля.
— Кушайте, пожалуйста, ваше превосходительство! — и опустился на траву рядом со мной.
— Ты что, решил больше не водиться с нами? — спросил Хаматкан.
— А вы очень по мне соскучились?
— Даже и купаться не пойдешь?
— Я только что искупался.
— Это не в счет. То ли дело переплыть Уршдон!
— Тоже мне пловцы нашлись…
— Что-о-о?
— Как маленький барахтаешься в воде и считаешь, что плаваешь.
— Пойдем попробуем!
— Попозже, — сказал я и поднял брошенные Агубе стебельки.
— Пошли сейчас! — загорелся и Агубе.
— Вода сейчас холодная. Не прогрелась. Да я еще и не завтракал. Хотите, пойдем сразу после полудня?
Согласились. Агубе меня удивил. Нам-то с Хаматканом отпрашиваться дома не нужно, Дзыцца вернется с работы только вечером. А Хаматкану и отпрашиваться не у кого. Отец погиб на фронте, мать вышла замуж. Она взяла младшего сына и ушла к новому мужу. Хаматкан остался у дяди, не захотел жить с отчимом. А здесь хоть и до самой ночи не вернется домой, никто о нем не вспомнит…
Другое дело Агубе. Он один у матери с отцом и не может шагу ступить без разрешения. Наверно, никого дома нет, так он и расхрабрился сегодня!
К обеду от жары стало нечем дышать. Соседские старушки вышли на улицу — кто с шитьем, кто с веретеном, кто с чесалкой — и уселись в холодке под акацией. Эта акация — самое высокое и самое ветвистое дерево не только на нашей улице, но и во всем селе. Мы с Агубе вдвоем еле-еле обхватываем ее ствол. А когда идешь домой из соседнего селенья, то первое, что видишь — это наша акация. А где акация, там и наша улица.
В такую жару даже овцы и телята прячутся под деревом. И не выгонишь… Мальчишки же пропадают на Уршдоне…
Духота начала проникать в комнату. Я вышел на улицу. Агубе живет рядом с нами. Что-то его не видно. Позвать боюсь: если старшие дома, то могут не отпустить его.
Откуда-то появился Хаматкан. Подошел тихо, как кошка, и шепчет мне на ухо:
— Где Агубе?
— Не знаю… Да вон он идет!
Агубе вышел из дома, а за ним бабушка. Сейчас начнутся поучения.
— Далеко не ходите, — наказывает Гуашша. — Казбек, ты умница, присмотри за ним. С рекой не шутят…
— Не бойся, Гуашша. Уршдон сильно обмелел.
— Что вы! — Старушка подошла ближе. — Там утонуть можно.
— Хорошо, хорошо! Поняли! — раздраженно сказал Агубе. — Иди домой. А то пока тут с тобой торгуемся, стемнеет. Пошли, если идете!
Агубе злится на бабушку. За грудного ребенка его считает. Хотя бы при людях не наставляла его!
Иногда мне становится жалко Агубе. Шагу не дают ему ступить. Гуашша так и кажется, что внука всюду подстерегает беда.
Дошли до околицы. Ноги в дорожной пыли тонут по щиколотки. Агубе держит чувяки в руке. При Гуашша он не посмел разуться, потому что босиком его не пускают.
Вышли за село. Галечник обжигает ноги. Агубе очень страдает с непривычки; не будь нас, он, конечно, снова обулся бы. Иногда у него подвертывается нога, но терпит, молчит.
— Я знаю одно хорошее место! — сказал Хаматкан.
— Где? — спросил я.
— Далеко отсюда. Омут.
— Вот бы искупаться в омуте! Чтобы заплыть и нырнуть!
— В таком случае пошли.
Хаматкан быстро зашагал вперед. Мы за ним следом. С прибрежного галечника поднялись наверх, пошли по траве. Здесь намного легче идти. Трава густая, высокая, сюда редко добирается скотина. Все чаще попадались по пути заросли ольхи.
Наконец Хаматкан остановился.
— Прибыли! — объявил он и начал раздеваться.
Лучшего места для купанья и не сыщешь. Волны почти незаметны, чувствуется глубина. Хаматкан забрался на разлапистую ольху, склонившуюся над омутом, и, сложив ладони, с гиком бросился вниз головой.
— Фу-у-у!.. Красота!
Он выплыл у того берега, встряхивая мокрым ежиком коротко остриженных волос.
Мы с Агубе не торопимся прыгать с дерева. Сначала надо узнать, очень ли здесь глубоко. Хаматкану нельзя верить, он может надуть. Как-то мы собирали колосья за комбайном. На обед нам дали суп. Хаматкан попробовал и говорит:
«Хоть бы разогрели как следует!»
Я спокойно хлебнул полную ложку, да так и подскочил! Рот как расплавленным свинцом обожгло…
Вместе с Агубе вошли в воду. Глубоко. Тут и началось — брызги, фырканье, хохот! У нас считается, что чем больше брызгаешься, чем громче фыркаешь — тем лучше плаваешь.
Через минуту доплыли до того берега.
— Не брызгайтесь! — проворчал Хаматкан.
Он уже вылез и блаженствовал на горячем песке.
Барахтались в реке до самого вечера. Солнце склонилось к горам, когда мы собрались домой. Дошли до галечника. Агубе на этот раз обулся.
— Глядите — гусята! — прошептал Хаматкан, показывая пальцем в сторону кустарника.
Он, крадучись, спустился к берегу.
— Скорей, а то уйдут в реку!
Гуси, вытягивая шеи и злобно шипя, неуклюже перебирают лапами. Между ними с писком путаются гусята.
— Обходи с той стороны! — командует Хаматкан. — Скорей, Агубе, уйдет!
Несколько гусят сорвались с поваленного ствола дерева. Мы кинулись к ним. Хаматкан поймал двух, мы с Агубе — по одному. Остальные бросились в воду и вплавь пустились к тому берегу. Гуси подняли тревогу. Гусята у нас в руках пищат, и гуси не знают, как им быть — то ли выручать гусят, то ли спасаться самим.
Хаматкан и Агубе спрятали своих гусят за пазуху. А я все еще держал в руках. До этого я много раз слышал от мальчишек, что они крадут на реке гусят, и тайком завидовал им. А теперь, когда у меня самого оказался в руках гусенок, я вдруг почувствовал себя как-то неловко и не знал, как дальше быть с этим пищащим жалким комочком пуха и тепла.
— Пошли скорей, а то кто-нибудь увидит! — торопил Хаматкан.
Агубе подтолкнул меня:
— Чего рот разинул?
Я вздохнул:
— Нехорошо воровать чужих гусят…
— Ишь какой совестливый! А сам накинулся на них коршуном.
— Я сейчас отпущу его.
— Отпустишь — и пропадет, — сказал Хаматкан.
Агубе поддержал его:
— Или же лисица поймает.
— Почему?
— Потому что отбился от стаи.
Я посмотрел на тот берег. Гусей и в самом деле след простыл.