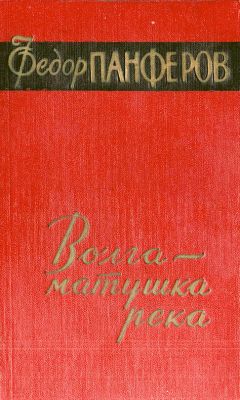Вот какими дочками и сыновьями одарила Кланя Егора… И, конечно, руки у нее огрубели: какую только работу не делали они! Однако когда она их положит на стол перед Егором, ему радостно: еще бы, мать!
Явись домой Егор весь изуродованный, примет она его. А вот теперь и перед ней стыдно. Ой, да что это за огонь — стыд!
И он шел и шел, не чуя под собой ног. Шел, сам не зная куда, не замечая того, что идет давно, а оторваться от села не может: кружится вокруг него, точно конь на привязи.
2
Весть о том, что Егор Пряхин не вошел в село, сначала докатилась до Иннокентия Жука, а затем до Клани… И Кланя со всем своим выводком — тремя сыновьями — выбежала за околицу.
— Егор! Егорушка! Кормилец ты наш! — звала она, все дальше и дальше уходя в темную, глухую и безлюдную степь.
А в полночь, словно бомба разорвалась, поднялось все село, и колхозники во главе с Иннокентием Жуком, пешие и конные, размахивая факелами, ринулись на поиски…
Ласковей всех звал Иннокентий Жук:
— Егор! Красавец ты наш, Егорушка!
Егора Пряхина нашли на дне оврага, залитого лучами горячего солнца. Он лежал в сухих травах. Виднелись порванная майка и раскинутые мускулистые руки. Вокруг него сидели волкодавы и, задрав лобастые головы, выли.
Колхозники донесли Егора до хаты, здесь при помощи Клани раздели, уложили в постель, затем, стараясь не шуметь, вышли на улицу.
Кланя глянула на беспомощно раскинувшееся богатырское тело мужа и, сдерживая рыдания, тихонько заплакала.
Егор лежал в одном белье, прикрытый по пояс простыней: на воле уже стояла жара. Было видно, как его крупные ребра, будто обручи на бочке, то вздымались, приподнимая рубашку, то опускались. Порою он дышал еле слышно, а иногда громко, точно бежал в гору, неся тяжелую кладь.
Когда мать вышла из комнаты, младший сын, Степан, еще не уяснив, что случилось с отцом, подошел к нему и так же, как тот, бывало, будил его, говоря: «Эй, Степан Егорович, брось валяться-то, вставай», — сказал:
— Эй! Егор Василич, брось валяться-то, вставай!
На него зашикали братья.
Степан, обиженный, отошел в угол, а когда Егорик, что был постарше его всего на полтора года, шагнул к нему и дотронулся пальцем до его плеча, он брыкнулся, как жеребенок.
— Их! Мимо, — зная уже этот прием братишки, насмешливо прошептал Егорик и еще шепнул: — Папка хворает… А ты: «Вставай, брось валяться».
Степан повернулся, глаза у него стали большими.
— А что?
— Чрус у него, — моментально придумав что-то невероятное, вымолвил Егорик.
— А что? — опять спросил Степан.
Сам не зная, как объяснить выдумку, Егорик, подняв глаза к потолку, развел руки.
— Докторша придет, скажет… И все одно тебе не догадаться: маленький.
— Я польшой, — возразил Степан.
— Как первому из блюда мясо таскать — маленький, а теперь «польшой»! — передразнил Егорик и еще что-то хотел сказать, но в эту минуту в хату вошла доктор Мария Кондратьевна, женщина высокая, пожилая и с таким острым и длинным носом, словно у кулика.
В комнате сразу запахло больницей. Ребята высыпали на кухню и, заглядывая оттуда в комнату, стали прислушиваться, что говорит докторша.
Ничего не поняв из слов Марии Кондратьевны, Егорик все-таки наставительно шепнул Степану:
— Слышишь? Чрус у папки.
А самый старший, Вася, ученик седьмого класса, сказал:
— Болтаешь: чрус какой-то!
— А спросим… спросим докторшу, — уже окончательно веря, что у отца «чрус», заговорил Егорик.
Мария Кондратьевна в белом халате казалась не только строгой, но и страшной. Она долго провозилась около Егора Пряхина, что-то размешивая в стакане и вливая больному в рот. За всем этим ребята из кухни следили с испуганным любопытством. Но вот «докторша» достала ту самую штуку — с длинной иглой на конце, что так была знакома Степану и что он возненавидел всей душой. Достала штуку, чем-то ее наполнила и пошла к отцу. Ребята зажмурились и отвернулись.
— И-их! — только и произнес Степан, стискивая кулаки и весь перекашиваясь, словно длинную иглу запустили ему ниже спины.
— Ты что сморщился? — спросила Мария Кондратьевна, заглядывая в кухню. — Иннокентий Жук придет, скажу ему: «А Степан-то у нас трус!»
Степан было растерялся, затем запротестовал:
— Он яблоко даст… моченое. Вот.
3
На воле пробуждался день.
Сначала вдруг наперебой загорланили петухи огромного села Разлома и так же неожиданно смолкли, только какой-то отчаянный звонким, с хрипинкой, голосом все орал и орал. Наконец и этот стих. Наступила пауза, но предрассветная тишь была уже нарушена. Теперь жди призыва вожака табуна, быка Илюшки… И в самом деле, вот и он подал голос, будто взял высокую ноту на флейте… Но в конце, от непомерного напряжения, что ли, сорвался на такую басину, что, говорят, даже коровам стало стыдно за своего вожака…
А потом все пошло как по-писаному: на конце села заиграл в рожок пастух, со дворов на улицу вывалились обленившиеся за ночь коровы и, поднимая придорожную пыль, потянулись на выгон — в степь; почти под самым окном домика Иннокентия Жука прокричала баба:
— Зорька! Я тебя! Я тебя!
Кому грозила, не поймешь, но прокричала так громко, что задребезжали стекла в домике Иннокентия Жука… Однако предколхоза и этот крик не потревожил: он спал крепко, без снов, на том же левом боку, на который лег вечор, подсунув кисть руки под щеку.
Труби хоть во все трубы, а Иннокентий Жук проснется, как всегда, только в пять утра. Зимой, летом, весной, осенью — ровно в пять. Хоть часы по нему заводи. Пробуждение не зависело от того, когда он заснул — в шесть ли вечера (чего, конечно, никогда не бывало), в двенадцать ли ночи или в три утра, — все равно в пять Иннокентий Жук на ногах.
И сегодня он тоже открыл глаза ровно в пять — минута в минуту — и сразу же глянул в окно, в которое так и лезло солнце, и увидел на привязи у калитки своего любимца, степного иноходца Рыжика. Как и каждое утро, конюх привел и привязал его у калитки.
Увидав иноходца, предколхоза тут же, без промедления, без раскачки и позевот, стал думать о хозяйстве колхоза.
Что и говорить, хозяйство огромное. Одной выпасной земли до двухсот тысяч гектаров. Да земли что? Тут, в Сарпинских степях да на Черных землях, ее миллионы гектаров. Вон у директора Степного совхоза, форсуна Любченко, под совхозом четыреста тысяч гектаров. А что толку? Скачут по ней тушканчики да роются суслики.
А в колхозе «Гигант»?
Видите, как предколхоза, еще лежа в постели, растопырил коротковатые пальцы и резко свел их в кулак: вот, дескать, как мы орудуем.
Да, действительно, на землях «Гиганта» пасется около сорока тысяч «баранты», так ласково зовет овец Иннокентий Жук. Да каких! Первоклассных. Лучших не найти не только в районе, но и в области. Найдись где лучше, Иннокентий Жук сгорит от зависти, точно сухой лист.
«Неустанно глядеть вперед — в этом гвоздь гвоздей. К примеру, что значит провести в жизнь решения «колхозного Пленума»? Это значит создать такую материальную базу, чтобы колхозные силы развернулись во всю мощь, — мысленно произносит он. — Для этого-то и надобно неустанно глядеть вперед. Соседи еще только планируют, калякают, а мы на всех колесиках айда вперед. Догоняй!»
А ведь до решения Пленума Центрального Комитета партии (это всем известно) председатель райисполкома Назаров наваливался на Иннокентия Жука, как градовая туча: то не так, это не так, тут нарушаешь артельный устав, там нарушаешь устав, не туда средства заколачиваешь, не на то тратишь, коллегиальность попираешь, с интересами государства не считаешься. Прямо-таки глотку готов был перегрызть, не говоря уже об инструкторе областного исполкома по прозвищу Мороженый бык. И почему Мороженый бык? Шут его знает! Даст же народ такую кличку! Может быть, потому, что у него такая сонливая походка, будто ноги чужие, и фамилия чудная — Ендрюшкин. Шут его знает! Только вот — Мороженый бык. Этот как насядет, как насядет с инструкциями разными, так хоть караул кричи!
Только секретарь райкома партии Лагутин давал полное согласие на все «мероприятия» Иннокентия Жука. А без него беги в пустыню и носи там вместо нормальной одежды воловью шкуру, питайся саранчой. Однако Иннокентий Жук не такой уж мякиш, чтобы падать духом: припертый к стене Мороженым быком, он притворялся наивным, восклицая:
— Ой! Нарушитель?! Вот спасибо-то вам: глаза мне открыли!.. А то я так бы и попер, Попер бы и попер… и — в тюрьму. Спасибо вам. Исправим. Незамедлительно… Вяльцев! — звал он своего расторопного заместителя и сурово кричал, подмигивая левым глазом, что по заранее договоренному означало «липа». — Вяльцев! Крути эту машинку к чертовой матери в обратный ход!
Так успокоив и обнадежив Мороженого быка, Иннокентий Жук выпроваживал его с благодарностью, а сам продолжал внедрять в жизнь свой план.