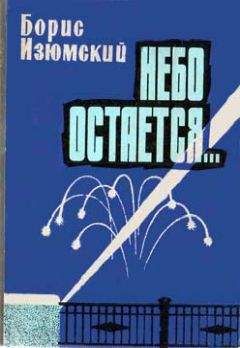— Нихтснутц! (Ничтожество!)
Овчарка положила Скворцовой на плечи лапы и жарко задышала в лицо, ожидая команду «Фас!», чтобы загрызть.
— Ральф, фу! — отозвала эсэсовка собаку, и та неохотно сняла лапы.
— Шнель! Грязная тварь! Дерьмо!
Оля вцепилась в скользкие ручки и, пошатываясь, покатила тачку дальше; от напряжения что-то будто лопнуло в горле, ломило плечи.
Еще учась в школе, она видела в учебнике по истории картинку: на какой-то стройке бородатые, в рубищах крепостные катят по доскам тачки, а надсмотрщик бьет палкой одного из них. Здесь все было так же, только возле ауфзеерок и капо — стояли еще и овчарки.
К концу дня Скворцова настолько выбилась из сил, что на полдороге остановилась, ожидая, что вот сейчас натравят на нее овчарку. Но подъехала Надя. Она незаметно оставила свою пустую тачку, а сама потащила дальше Олину.
Когда, разбитые, обессиленные, они возвратились в блок, Надя прошептала Оле:
— Все равно сбегу… А не удастся — брошусь на проволоку. Лучше так, чем работать на фашистов.
В окно видна была стена, из нее выступали каменные опоры — с белыми изоляторами, похожими на голубей.
В блок вошла Анель:
— Номер 13868 в шрайбштубу!
Надя посмотрела на свой номер, нашитый на левой стороне груди, рядом с красным треугольником и буквой Р.
— Это меня, — она пошла к двери.
— В канцелярию вызвали, — пояснила Ядвига.
— Зачем? — тревожно опросила Оля.
— Ничего добжего не жди. Кем она прежде была?
— Летчицей.
— Втэды не вернется, — угрюмо сказала Ядвига, — забьют…
* * *
Дни поплелись для Оли в однообразии жестокостей, голода, непосильного труда. Месяц тянулся мучительным годом.
Ее избивали на торфяных разработках, в бараке, на плацу пинали ногами. Недавно два часа продержали на коленях в грязи за то, что недостаточно быстро вышла на аппель.
Вся эта свора: ауфзеерки, блоковые, их помощницы-штубовые, десятницы-анвайзерки, бригадирши-капо — вся эта свора кричала, материлась, сажала в земляной бункер с крысами, угрожала оставить «оне фрессен» (без жратвы), бросалась с палками, резиновыми шлангами, набитыми песком, плетками: не так завязан платок, не так посмотрела, посмела мешок-платье подпоясать… выпила глоток воды, не вылизала миску… Били ради собственного удовольствия, чтобы человек чувствовал себя скотом. Заставляли руками выгребать нечистоты из ямы в бочки…
Каждый день хефтлингов, как звали заключенных, отправляли в крематорий. Черный сладковатый дым пропитывал одежду, мысли Оли, мрачной тенью нависал над лагерем. Каждый час мог быть последним для нее.
К Оле приходило отупление безысходности, безнадежности, и теперь она уже безразлично глядела на штабеля голых трупов с номерами, выведенными синей краской.
* * *
На этот раз Скворцова целый день месила ногами глину на кирпичном заводе. Возвращались под вечер. Загорались в небе равнодушные звезды. Остервенело кричали вороны на голых деревьях. Возле угловой вышки с часовым, будто висящим в воздухе в широком караульном мантеле, браво играл марш Вагнера лагерный женский оркестр. Снег не таял на медных трубах.
…Вяло съев кусочек хлеба с опилками, запив его кружкой желудевого кофе, Оля прилегла в оцепенении. Уже давно прокричала Анель: «Lagerruhe! (Отбой!)»— а она все полудремала. Но вдруг, словно от толчка, открыла глаза и похолодела при страшной мысли: «Да ведь я беременна». Сомнений быть не могло, это именно так.
Ужас овладел ею.
…Теперь Оля не замечала ничего, что происходило в лагере. Ее неотступно преследовала мысль: надо убить себя и его. Себя и ненавистного его. Другого выхода нет.
Муки физические — чирьи по телу, гнойные нарывы между пальцами, побои — были ничем сравнительно с нестерпимой мыслью о том, что происходило с ней.
О прошлой жизни — школьной, акмолинской, под кровом родителей, армейской — Оля старалась не думать, чтобы не растравлять еще больше душевные раны. Да и была ли та жизнь?
Испоганенная насилием, она презирала себя, своё тело. Лишь иногда вдруг возникал образ Анатолия, но в таких случаях Оля испуганно отодвигала это видение, запрещала себе воспоминание, как святотатство.
С кирпичного завода Оля вынесла веревку, обвязав ею себя под одеждой.
…Утром, когда все вышли строиться в рабочие команды, Оля осталась в пустом бараке, спряталась на верхней полке, потом достала из-под матраца веревку, неумело сделала петлю, другой конец веревки привязала, к балке. Став на край второй полки, сунула голову в петлю и прыгнула.
Ядвига, все последнее время с тревогой наблюдавшая за Скворцовой, сейчас была встревожена ее отсутствием и, боясь, что Оле достанется, побежала в барак. Увидя висящую Олю, Ядвига вскликнула:
— Матка бозка! Цо щ ты зробила, дядецко?
Подскочила к Скворцовой, приподняла ее худенькое тело, освободила горло от петли, положила Олю на жесткие нары, припав ухом к ее груди, убедилась, что она жива, развязала и спрятала веревку. Присев рядом с Олей, поглаживая ее голову короткопалой рукой, по-матерински зашептала:
— Езус Мария! Вырвамы ще з тэго пекла, вырвамы, а вражин пшивешам!
У Ядвиги не было своих детей, и эту девочку ей было по-матерински жаль. Что надумала, несмышленыш!
Ядвига быстро говорила, и, в общем-то, смысл сказанного откуда-то издали доходил до Оли: что умереть легче, чем сопротивляться даже здесь. Что мерзавцы хотят вытравить в них все человеческое, но надо не сдаваться, бороться! И еще Ядвига говорила, сколько горя обрушилось на нее за последнее время: погиб муж в партизанах — до войны они вместе работали на мебельной фабрике, ее пытали в тюрьме, умерла мать…
Оля сквозь всхлипы и слезы рассказала о своем отчаянном горе.
— Не тшэба, дядецко, успокойще, — нежные руки Ядвиги продолжали гладить Олю, — рожай, мы выходим этого непрошеного поганьца. Все едино он твой… Усё будет горазд…
Оля припала к Ядвиге, словно ища у нее защиты.
В дверях барака появилась разъяренная Анель, крикнула визгливо:
— Бездельницы! Большевички! Мне за вас головой отвечать!
Подбежав к нарам, стала хлестать нагайкой, свитой из проволоки Ядвигу, своим телом укрывавшую Олю.
— Заболела, заболела, — не вымышляю, — Ядвига руками старалась спасти Олю от ударов, — айн момент, пойдем…
* * *
Он родился, едва не унеся жизнь матери: красный, словно обваренный, комочек, с паучьими ножками, ручками, старчески сморщенным личиком. У него не было сил даже кричать, только тыкался слепо в грудь и жалобно кряхтел.
Разноречивые чувства раздирали Олю. Она то ненавидела этого нежеланного, чужого; то ей вдруг становилось, мучительно жаль скелетик, обтянутый кожей. В чем виноват он, что появился на страшный свет, зачатый мерзавцем?
В лагере один из бараков был заселен женщинами с детьми, и туда перевели Скворцову. Оля долго не могла решить, как назвать сына. Не оскорбит ли она память о любимом, дав его имя? Но ведь сможет хотя бы произносить: «Толик, Толенька».
Женщинам из других бараков запрещалось входить в детский, но и Галя и Ядвига умудрялись проникать к Оле, приносили ей то бурачок, то сухарь.
В три месяца от рождения Толику поставили синее клеймо на левой руке и включили в список для аппелей. А в шесть затребовал его к себе в госпиталь — ревир, как называли его здесь, — лагерный врач Густав Вайгерер.
Вызванная через надзирательницу в ревир Скворцова с сыном миновала штабель с трупами, осыпанными хлоркой, — «крематорная команда» не успевала увозить их. Возле штабеля сидел на земле младенец с большой, не по туловищу, головой и сосал палец свесившейся руки мертвой матери. Оля подхватила его, донесла до ревира, оставила в коридоре — должен же кто-то подобрать ребенка.
Она вошла в уютный, теплый кабинет. Здесь знакомо пахло спиртом, йодом. На стене висели таблицы для проверки зрения, в углу высился столбик для измерения роста.
Доктор, чисто выбритый в накрахмаленном халате, сосредоточенно склонился над микроскопом.
Оторвавшись от него, рассеянно поглядел из-под очков без оправы на Олю и приказал развернуть младенца. После осмотра сказал:
— Ты останешься с ним в ревире… санитаркой…
Чем-то напомнил он Скворцовой того доктора, что преподавал у них на медицинских курсах в Акмолинске и даже ходил однажды провожать ее домой. Этому тоже лет тридцать пять, и такие же светлые, гладко зачесанные волосы, и высокий рост, только глаза мутно-зеленые.
Оля осталась работать в больничном блоке, прилегающем к кабинету врача и вскоре оказалась свидетельницей здешнего «лечения». Гланды доктор вырезал без наркоза, от всех болезней прописывал касторку, а для каких-то своих таинственных целей впрыскивал больным бензин, концентрированный соляной раствор, после чего люди часто умирали. Изо рта умерших выдирали золотые коронки, а на плечо ставили штамп: «Осмотрен зубным врачом».