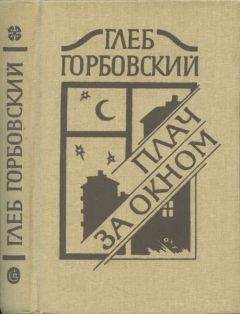Погиб Валентин Сергеевич во время пожара, который случился в бараке. Загорелась проводка, вспыхнули сухие трухлявые полы и стены строения. Произошло это бедствие летним днем в послерабочее время. Люди из барака повыскакивали, кто в чем был, лишь бы живым остаться. А папа Валя в застиранных «семейных» трусах выскакивать на люди не пожелал. Светло еще было снаружи. Не к лицу управленцу в трусах, непорядок. В момент, когда вспыхнуло и занялось, лежал он в панцирной койке, как в гамаке, и читал газету. Подхватившись, начал натягивать галифе — штанцы, для мгновенного употребления весьма неудобные, в икрах узкие до чрезвычайности и вообще не нашего бога портки. Ну и подзапутался в них. Времечко, отпущенное судьбой на прыжок из окна, ушло. На голову отца упала брусчатая балка с торчащей в ней ржавой и острой скобой. Отца затем хоть и выхватили из огня бесстрашные комсомольцы, но уже неживого: убило балкой. А проигнорируй он галифе, вообще — начихай на свой внешний вид — наверняка бы еще долго жил.
Вспомнив отца, Викентий неизбежно воскресил в памяти и образ матери, женщины, напуганной городом, вечно румяной Аннушки, которая после гибели мужа возвратилась в родную вологодскую деревеньку Окуньки, куда-то под Белое озеро, где и поселилась в просторной избе бессемейного, одноногого и однорукого инвалида войны Селиверста Печкина, нарожала ему детей, которые, подрастая, незаметным образом исчезали из родимых краев так же, как, по образному выражению Мценского, исчезают с болотного дна пузыри, устремляясь к солнечному свету, где и лопаются, сливаясь с атмосферой бытия.
Себя, сельского, проживающего в Окуньках, Мценский почему-то вообразить не мог, из чего напрашивался вывод: Викентий тогда вместе с матерью из города в деревню не поехал, скорей всего остался учиться в какой-нибудь ремеслухе. Могло такое быть? Запросто. Мать, румяная Аннушка, рисовалась в теперешних фантазиях Мценского пожилой, ущербной женщиной, натуральной старушкой с аккуратными, зачесанными к затылку волосами сахарной белизны и сдобными, хотя и морщинистыми — печеное яблоко — щечками.
Помнится, как возникла она в городе по второму разу, где-то уже перед болезнью Мценского, после тридцати лет отсутствия, будто с того света объявилась. Сам Мценский тогда уже плохо соображал, что к чему. Он решил, что мать ему пригрезилась в похмельном бреду, и даже чаю не предложил родительнице, не говоря о водочке.
Должно быть, Аннушка-родительница разыскивала в те дни по миру своих детей-пузырьков и к Мценскому заглянула безо всякой надежды на то, что он ее признает-приласкает. И ведь не признал-таки- Болезнь не позволила. И лишь теперь, в садике, на пегой от птичьих шлепков скамье осенило Викентия, что была у него перед больничным лежанием мать, а раз была, может, и посейчас есть? Была, приходила, а он ее даже к столу не пригласил, на полу валялся в затхлой комнатенке, которую при размене выделила ему жена, гражданка Романова Антонина Николаевна.
«Неужели эта комнатенка и есть… Колупаева, тринадцать, квартира тридцать один? — зашелестел Мценский паспортными страничками. — А вдруг и мать моя, Аннушка, по этому адресу проживает? Хотя вряд ли… В мышиной норе и чтобы — двое. Где-то она теперь, матерь моя кормилица? Жива ли? И сколько ей годков, если ему, Викентию, пятьдесят один стукнул? Так ведь никак ей не больше семидесяти. Молодая меня родила небось. Нестарая — и к инвалиду прибилась. Иначе — откуда они, многочисленные ее детки?»
— Здорово, Кент! — обратился к Мценскому какой-то весь изношенный, перекошенный товарищ (в плечах, в ногах и даже в прокуренных губах просматривалась у него этакая нервическая диагональ). — Извини, думал, что ты уже того, на тот свет эмигрировал. Просветителем в преисподней работаешь, историю СССР жмурикам преподаешь, ха-ха!
Давненько тебя не видать было, Кент. Года два, не меньше. Хочешь, кармазинчиком угощу? Со свиданьицем?
— Здравствуйте… Очень приятно сознавать… Только я не Кент.
— Ясное дело, Викентий! Сокращенно — Кент. Не узнает, чудила! Да Чугунный я, Володя Чугунный! Фамилия Чугунов. До ЛТП в театре для умалишенных работал осветителем, ха-ха! Теперь вот в домино играю с пенсионерами. По маленькой. Сказать, где мы с тобой познакомились? Пятое наркологическое в Бехтеревке, секешь? С диагнозом — алкогольная потливость. Пять лет тому назад, ну, как, икнулось? А продолжили знакомство — где? Сказать, или сам признаешься? То-то вот: на улице Лебедева, в бывшей женской тюрьме, ныне психушка. С диагнозом — алкогольная болтливость, ха-ха! По-научному — бред, делириум. А по-нашему — белая горячка. Секешь? Сечешь? Погоди, как правильно будет? Сек… чешь? Или — как?! Выкладывай, не томи: признал Чугунного? А ты, часом, не подшитый? Не со спиралью? Если нет — угощаю. Кармазинчику сотку могу нацедить. У меня три пузыря. Возле рынка в парфюмехе отоварился. Применял когда-нибудь? Мировое изделие, скажу тебе! Импорт. Шестьдесят процентов этила. Чистяк. И пять витаминов от перхоти содержит — на закусь.
Извините, но я опять про дорогу… Интересно было бы узнать, дорогой Геннадий Авдеевич, вашу на эти мои записки реакцию. Небось не верите ни одному слову. То есть верите, конечно, что мог возникнуть подобный бред у алкаша, не более того. А я продолжаю утверждать: была дорога! И я по ней шел. Как сейчас все это вижу… Я мог бы и промолчать об этом, забыть, не развивать тему. Но вы сами просили меня об откровенности. И еще: мне очень нужно повстречаться с пережитым, хотя бы на бумаге. Чтобы сделать его прошлым. А затем и вовсе освободиться от него.
Так что… была, была дорога. В густом потоке текли по ней люди, птицы, звери и прочие твари, варившиеся в свое время в общем жизненном котле, в бульоне бытия, а ныне — идущие к развилке. И никто на этой дороге уже не старел, не болел и не умирал, не портил соседям кровь, так как не было ни добра, ни зла, ни прочих нравственных субстанций, рожденных человеческим разумом, как не было подвижного времени, и лишь подразумевалось некое возмездие, некая конечная правда, запрограммированная самим смыслом всеобщего продвижения.
Люди, идущие по дороге, изъяснялись каждый на своем языке, но все они понимали друг друга. Национальные особенности шествующих людей не были размыты, но к этим особенностям был как бы добавлен еще один, общечеловеческий, признак, признак планетарной личности — личности, сумевшей остаться собой, выжить в хаосе, предварявшем шествие. Как голуби Канады своим воркованием не отличались от воркования голубей России, как собаки Индо-Китая движениями хвостов и взбрехиваниями не отличались от собак Африки, так и люди всех континентов, общаясь на дороге друг с другом, были теперь едины и одновременно отдельны, целостны структурно, интеллектуально, точно так же, как капли или снежинки, не ставшие океаном, были покамест падающим дождем или метелью и в своем погодном продвижении не нуждались в переводчиках с одного снежного или дождливого языка на другой.
Теперь-то я понимаю, что веточка полыни, имевшаяся у меня в записной книжке, источала, скорей всего, не запах (какие уж там запахи на стерильнопризрачном пути!), она источала опять-таки некий признак, полынную идею-фикс, эфирные масла ностальгии по земному укладу существования; та родимая веточка просто не отпускала меня из своих чар, ибо, повторяю, был я весьма несовершенен, и мной, как и подобными мне, долго еще владели помыслы и ощущения земных пределов.
Необходимо сказать, что по возвращении с дороги, по сошествии, так сказать, с небес, пробовал я, находясь в больнице, неоднократно внюхиваться в свою веточку, но ничего сверхъестественного не ощутил, никаких прежних, сладчайших для сердца запахов не уловил. Они или растворились в более активных ароматах и зловониях, в испарениях, плывущих над поверхностью планеты, или, что наиболее вероятно, просто-напросто выдохлись, вознеслись к небу. Но ведь не только полынный запах исчез — улетучились чары.
Однако вернемся на дорогу. Посмотрим в глаза неизбежности. Понаблюдаем шествие одержимых. Посочувствуем падшим, восхитимся совершенными, отдадим должное незрелым вроде меня.
Так вот… женщина. Прежде всего — о ней. Почему? Не знаю… Наверное, потому, что она — начало. Жизни, плоти, любви. Помните, я заприметил ее возле участка, над которым шел снег. Я конечно же сунулся туда, за ней, в этот миниатюрный январь, в эти отграниченные от дорожного пространства кубические метры игрушечной зимы, метнулся туда в жиденьком своем одеянии, в вытертом, полупрозрачном блейзере, и так как был недоисполнен, незавершен, то есть не просто суетлив и взъерошен, но даже как бы все еще не чист на душу, то незамедлительно стал себя чувствовать неуютно. И не потому ли вопрос, с которым я обратился к женщине, напугал меня самого, а женщину оставил равнодушной, вернее — бесстрастной, хотя и детски улыбчивой.