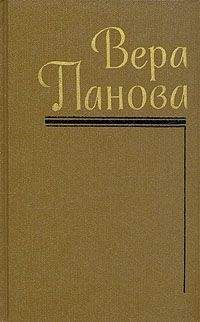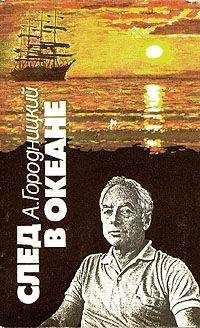По другую сторону сеяли хлеб. Вдоль хлебного поля, параллельно трамваю, была протоптана дорожка, ее обсадили молодыми акациями. Колосья кивали проходящим горожанам, дикие травы подступали к дорожке, повилика забрасывала на нее свои длинные побеги с маленькими розово-белыми граммофончиками.
В начале тридцатых годов на «границе» строили театр. Севастьянов приехал тогда из Москвы в командировку и не узнал знакомого места. Поле было изрыто котлованами, завалено строительными материалами, ходили паровозы, выбрасывая кучевые облака, в облаках передвигались краны… Театр построили великолепный, с самой большой и самой усовершенствованной в мире сценой, из самых дорогих материалов, во всех газетах писали о нем…
В войну он был разрушен фашистской бомбой.
Теперь его опять поднимали из праха…
Но все это позже. В юношеские годы Севастьянова на «границе» колосился овес. Тут хорошо было петь хором, никто не мешал. И можно было, устав, посидеть на низенькой травке, пахнувшей пылью и повиликой.
— Как вы считаете, — спросила Зойка маленькая, — мы целый день спорили: человек работает, чтобы жить, или же он живет, чтобы работать?
Зоя большая сказала, покусывая колосок:
— Я считаю — он работает, чтоб жить.
— И я! — сказал Ленька Эгерштром, который по-прежнему крутился перед большой Зоей и во всем ей поддакивал.
— Так какой же ты после этого комсомолец! — тихо сказала Зойка маленькая и немножко задохнулась от негодования. — Какой ты комсомолец, если ты так считаешь!
Ленька стал оправдываться:
— Ну хорошо. Если бы мои братья не работали в посадочной мастерской, на что бы мы жили? Нам не на что было бы жить. А ты думаешь, это очень приятная работа? Как же! У них вся одежда пахнет кожей, и волосы, и руки, никаким мылом не отшибешь, ни одеколоном, ничем. А они молодые парни. А девчатам это не нравится. Так, по-твоему, кто-то специально должен жить, чтобы работать на посадке?!
— Это частный случай! — возразил Семка Городницкий.
— Ну конечно! — сказала Зойка маленькая. — Частный и ничтожный.
Спирька Савчук сказал, что приятная работа или неприятная настоящего коммуниста это не должно интересовать. Это интеллигенция (Спирька произносил: интеллихэнция) выдумывает насчет приятности и неприятности. Кто не трудится, тот не ест. И все.
Желтые желваки ходили по Спирькиным скулам, желтый штопор чуба торчал из-под козырька кепки, папироса, свисающая с губы, придавала Спирьке утомленный, разочарованный вид. В свое время, после изгнания белых, он был вожаком группы ребят, потребовавших, чтобы интеллигентов не пускали в комсомол: у них пускай будет своя организация, говорили эти ребята, а комсомол — только для рабочих. К интеллигентам они причисляли всех учащихся, без различия классов. «Молодежная трудовая оппозиция» — так звала себя Спирькина группа — митинговала и шумела по всему городу, распаляя страсти, пока губком партии не положил конец этой заварушке. «Молодежной трудовой оппозиции» предложили прекратить раскольничью деятельность, и Спирька, лишившись трибуны, заскучал и закапризничал. Между приступами малярии — его трепала малярия — он то эпатировал нэпманов на улице, то закатывался с неподходящими ребятами в пивнушку, то вдруг окружал большую Зою тяжелым, настойчивым, каким-то неприязненным вниманием…
— Если ты не паразит, — закончил Спирька, — работай, что тебе советская власть велела, и все. На то существуешь.
— Несколько примитивно, — сказал Семка, — но тем не менее соответствует истине.
Зойка маленькая спросила:
— Если цель жизни не в том, чтобы приносить пользу людям, то в чем же?..
— Смотря каким людям, — сказал Спирька Савчук.
— Рабочим и трудовому крестьянству, — заботливо уточнил Семка.
— …Неужели в том, — продолжала Зойка, — чтобы жить для собственного удовольствия? Трудиться для продления собственной жизни?.. — Она пожала плечами с презрением.
Севастьянов сказал: все-таки приятная работа — не выдумка, есть много разных хороших работ, самая же лучшая — газетная; и не только печататься в газете, но и собирать заметки, и принимать подписку, и что угодно. Если бы даже за это не платили никакой зарплаты, он все равно бы это делал и ни на что не променял.
— А на жизнь где брал бы? — спросили они.
На жизнь подрабатывал бы. Например, опять бы пристроился разгружать баржи.
Зойка сказала: мало ли что. Вопрос поставлен принципиально. Жить ради наслаждения способен только мещанин. Она нервничала неспроста, они с Зоей большой, видимо, крепко поспорили на эту тему. Зои стали часто спорить, и маленькая, из воспитательных соображений, переносила вопрос на обсуждение коллектива. А ребят, бывало, хлебом не корми, только дай порассуждать о таких вещах.
Они чувствовали потребность определить — как им вести себя в новой жизни. Еще многое в этом смысле было туманно, они же хотели ясности во всем.
Однажды обсуждали: этично ли хорошо одеваться? Леньку Эгерштрома старшие братья устроили к себе в посадочную мастерскую, и он оделся шикарно — завел модные брючки-«бутылочки» из синего шевиота, модные туфли «щучки» и рубашку «апаш». И вот по поводу его роскошного вида зашел разговор: правильно ли, что комсомолец ходит в туфлях из чистого шевро и брюках, за шитье которых заплачена частнику-портному громадная сумма? Допустимо ли это для человека, носящего значок Коминтерна молодежи, когда во всем мире, кроме Советской республики, массы еще угнетены и обездолены и, скажем, в Германии на окраинах городов люди ютятся в жилищах, сделанных из ящиков, потому что нечем платить за квартиру, и дети питаются картофельными очистками?
Зойка маленькая била кулачком по ладони и говорила страстно:
— Недопустимо, недопустимо!
— Ребята, да подождите! — кричал Ленька Эгерштром. — Ребята, да постойте! У нас на посадке все так одеваются, что я, виноват? Если хотите знать, я еще столько не заработал, мне братья дали денег и сказали: «Оденься хорошо, а то ты как белая ворона». У нас на посадке здорово платят — что я, виноват?
Но о Зойке маленькой было известно, что ее отец, железнодорожный проводник, зарабатывает еще лучше, чем братья Леньки Эгерштрома, и Зойка единственная дочь, и отец с матерью хотели бы одеть ее как куклу, а она не позволяет. Разумеется, ее слово весило больше, чем Ленькино.
— Значит, — спросила вдруг Зоя большая, — и шелковые чулки нельзя носить?
— Конечно! — сказала Зойка маленькая.
— И лакированные туфли нельзя?
— Ты же слышала!
— И замшевые перчатки? И белье с кружевами? — спрашивала большая Зоя.
Все посмотрели на нее. Она шла в своих парусиновых туфлях, надетых на босу ногу, в с тираном-перестираном платье, у нее не было ни шелковых чулок, ни замшевых перчаток, ничего, кроме старого платья и грубых туфель. Неужели, подумал Севастьянов, и она, как Нелька, мечтает о барахле, выставленном в магазинах, но ведь Нелька — отсталая девчонка из Балобановки, а Зоя большая дружит с передовыми ребятами и читала «Джимми Хиггинса».
— Зоенька, — сказал Семка Городницкий, — не надо, чтобы мы думали о тебе хуже, чем ты есть. На черта тебе вся эта дрянь, ты прекрасна и так.
С обеими Зоями Севастьянов познакомился еще в двадцатом году.
В том году болели тремя тифами: сыпным, брюшным и возвратным. Умирали больше от сыпного. На плакатах была нарисована вошь. Магазины стояли заколоченные. Бандитов развелось гибель, по ночам в разных концах города бахали выстрелы. И было множество студий, где читали стихи, рисовали картины и танцевали босиком по методу Айседоры Дункан.
Югай сказал:
— Возьми какого-нибудь хлопца или дивчину, кто у нас разбирается в стихах?
— Семка Городницкий разбирается.
— Вот. Возьми Городницкого и сходите на Лермонтовскую, — Югай назвал номер, — там какой-то поэтический цех открыли, надо посмотреть, что за цех.
Лермонтовская улица была тихая, с бульваром, с четырьмя рядами сероватых от пыли деревьев. Поэтический цех помещался в бывшем буржуйском особняке, одноэтажном, из ноздреватого серого камня. Особняк стоял в глубине цветника. Клумбы заросли бурьяном, на дорожках валялись окурки, но высокие прекрасные розы цвели над этим запустеньем — чья-то рука берегла их. В распахнутых окнах мелькали молодые лица.
Севастьянов и Семка вошли. Их не спросили — кто такие и зачем: и внимания на них не обратили. Они прошлись по дому. В первой комнате были некрашеные скамейки без спинок да столик, во второй — рояль и перед ним круглый табурет, и больше ничего нигде, голо. Окна настежь. Сквозняк, запах роз из цветника. Молодежь вольно бродила по прохваченным сквозняками светлым гулким комнатам, сидела на мраморных подоконниках, кто-то подбирал что-то на рояле, встал — сейчас же другой подсел, стал подбирать свое. Каждая нота ясно звучала по всему дому. Вдруг все соскочили с подоконников и заспешили в ту комнату, где скамейки.