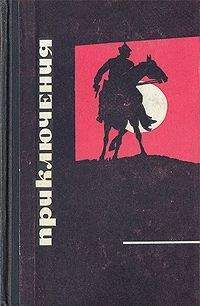Окруженные темным, каким-то таинственным фоном, они производили странное, тяжелое впечатление.
Если там, на светлых картинах, отсутствовала жизнь и сияющие лучи казались мертвыми, то здесь, с этих темных полотен, окутанных мраком, лилась жизнь: в них играло движение, они показывали высокую силу руки, создавшей их.
…Вдали, над горизонтом, белеет слабая полоска света, на которую давят неестественно темные тучи, такие неподвижные, будто созданы они из затвердевшего дыма. Кругом мрак. Маленькая полоска света едва освещает лицо человека. Глаза его глубоки и страшны. В них горит и жажда жизни и тоска, они — зовущие, куда-то устремленные. Кажется, будто эти глаза затаили в себе судьбу всей человеческой жизни.
На другой картине изображался человек, идущий по грязной дороге. Позади него толпа людей. В их позах, в выражениях лиц — отвращение, угроза. При первом же взгляде на картину можно безошибочно сказать, что толпа прогоняет человека. Она боится, она сторонится его и стремится от него избавиться.
Чья-то рука поднята над толпой и сжимает камень, очевидно предназначенный для уходящего. Вот сейчас камень полетит и ударит ему в спину. Она очень выразительна, эта спина, такая скорбная, такая приниженная. В руке уходящего маленький узелок. Впереди, куда убегает тоскливая дорога, — мрак…
Обе картины были почти закончены, но художнику все казалось, что еще много в них недостатков. Кравцов продолжал работать над ними, стремясь добиться совершенства.
Он не нуждался ни в красках, ни в полотне. Он располагал деньгами. Несмотря на свою инвалидность, Кравцов работал в поле, и Пыхачев щедро платил ему. В кассе лепрозория на счету Кравцова лежала некоторая сумма денег, к которым, впрочем, он почти не прикасался. Он говорил: деньги ему не нужны, Пыхачев может обратить их, по своему усмотрению, на хозяйственные нужды лепрозория, так как, кроме материалов для рисования, ему не на что тратить заработок.
Быть может, сбережения лежали бы в неприкосновенности до самой смерти Кравцова, если бы однажды на имя директора лепрозория не пришло письмо от какой-то женщины. Она просила отсылать по указанному адресу деньги, зарабатываемые Кравцовым, если, конечно, на то последует согласие самого Кравцова… Впрочем, на этот счет у автора письма не было никаких сомнений.
Для получения согласия она считала вполне достаточным, чтобы Кравцову сообщили — кто пишет это письмо. Никаких доводов, разъясняющих основательность такой просьбы, в письме не приводилось.
Когда доктор Туркеев прочел его, он возмутился и хотел бросить письмо в корзину, но раздумал и вызвал Кравцова. Не говоря ни слова, Туркеев передал ему письмо. Как только Кравцов взглянул на почерк, лицо его, исковерканное язвами, дрогнуло, будто его ударили хлыстом. Он заморгал глазами и долго смотрел на подпись. Затем вернул письмо доктору Туркееву и спросил:
- Что она пишет?
- Батенька мой, — сказал Туркеев, — это письмо надо вам самому прочесть. Тут дело денежное, но сознаюсь, что удивлен. Я не знаю и не хочу знать чужие интимные дела, но мне кажется все-таки странным… От такого больного и вдруг какие-то деньги, как будто он открыл новый Клондайк…
Туркеев изложил Кравцову содержание письма и с любопытством взглянул на него. Тот развел руками и, не раздумывая, тут же дал согласие.
- Так, значит, посылать? — удивился доктор.
- Посылать, — тихо ответил Кравцов.
С тех пор причитающиеся Кравцову деньги Пыхачев отправлял по указанному в письме адресу.
Случай с письмом стал известен всему лепрозорию. Им тотчас заинтересовался Протасов, имевший в данном случае какие-то свои соображения и решивший, что тут открывается новая деталь для изучения характеристики если не всех прокаженных, то, по крайней мере, Кравцова.
В тот же день он явился к нему:
- Я знаю, в жизни есть вещи, о которых трудно и даже невозможно говорить. Ты извини меня. Но пойми: интересуюсь я не праздно. Я не сплетник, не баба. Яне сгораю от подлого любопытства — в этом ты можешь быть покоен, и поэтому я считаю, что могу спросить у тебя — кто эта женщина? Почему она требует от тебя деньги? Почему ты беспрекословно их отсылаешь? Почему к тебе никто никогда не приезжает? И где начало твоей болезни? Подожди, не отворачивай лица…
Кравцов исподлобья смотрел на Протасова и ничего не говорил.
- Хорошо, я не насилую тебя. Если не можешь — не надо. Но я ведь знаю: такую тяжесть, какую ты носишь в сердце своем, нельзя таить всю жизнь.
Расскажи… Увидишь, как тебе сразу станет легко.
Кравцов продолжал молчать и словно откуда-то издали смотрел на Протасова. В конце концов тот перестал допытываться. Он был уверен: рано или поздно Кравцова прорвет и потянет на откровенность.
Человек — не камень.
Протасов был прав.
Это произошло случайно, спустя несколько месяцев.
Однажды ночью, мучимый бессонницей и головной болью, Протасов поднялся, надел свой халат и вышел во двор. Поселок спал. Кругом на много верст простирались покой и молчание. Все огни на больном дворе были потушены.
Обитатели его спали, забыв о боли и проказе. Ночное молчание изредка нарушал доносившийся из глубины степи детский плач шакалов. Василий Петрович прошел весь поселок и остановился перед последним домом. Здесь жил Кравцов. Но почему так поздно освещено его окно?
"Вот тебе н-на… Не спит чего ж это он не спит?" — подумал Протасов и подошел к окну. Через занавешенное окно ничего нельзя было рассмотреть. Он подошел к двери и увидел свет, падавший из щели на темный пол открытого коридора. Дверь оказалась незапертой. Протасов нажал ручку и шагнул через порог.
…Прямо у стены стоял Кравцов и смотрел на Протасова глазами, в которых застыл ужас. Он что-то прошептал Протасову, но тот ничего не расслышал. Наконец, спустя некоторое время, до него донесся голос Кравцова:
- Ты зачем?.. Ты… как сюда пришел? Почему ты пришел?
Протасов всмотрелся в него и понял, что Кравцов пытался прикрыть своим телом какую-то висящую на стене картину.
- Экий ты чудак, будь ты неладен! Тьфу, как ты испугал меня.
- Зачем ты пришел сюда? — снова прошептал Кравцов, постепенно начиная приходить в себя. — Как… как ты попал сюда?
- Да ты впрямь ошалел… Почему я не могу приходить к тебе? Ты в тюрьме или в раю сидишь, что ли? Ну, брат, я не ожидал такого… Ей-ей…
Протасов решил уйти.
- Если у тебя, — сказал он, — действительно есть такое, чего нельзя знать другим, изволь, голубчик, — я уйду… Но зачем ты смотришь такими глазами? Ведь так ты насмерть напугать можешь… Ну, ты и шальной… Прямо — не узнать человека.
Он повернулся к двери и взялся за ручку и в тот же момент услышал голос Кравцова:
- Обожди, не уходи. Останься… Раз вошел — будь гостем… Пускай… Все равно.
Протасову показалось, что эти слова произнес не Кравцов, а кто-то другой, стоявший за стеной. Он остановился.
- Нет, брат, сегодня я не узнаю тебя. Или я одурел от бессонницы, или ты сумасшедший…
- Сядь и смотри, — перебил его Кравцов.
Первое, бросившееся в глаза Протасову на полотне, — была лампа, спокойным светом освещавшая нечто темное, едва заметное на полотне. Он подошел ближе, вгляделся в картину и снова отошел от нее к двери. Только тогда ему стал ясен сюжет.
Он долго молча смотрел на картину и не мог подобрать соответствующих слов
Потом сказал:
- Так, брат, рисовал один голландский художник-Рембрандт. Гений. Такая глубина освещения, такие тени, такие мазки! Только один Рембрандт умел на таком фоне освещать так места, которые ему хотелось сильнее показать. Да, брат, я не знал… Ты умеешь рисовать… Но что это такое? Вот это лицо прокаженного — ясно. Но почему это? Что за необычайное действо? Разве такое может быть? А?
Он пристально взглянул на Кравцова. Тот продолжал сидеть на койке, уронив голову на руку.
На картине был изображен непристойный сюжет: два человеческих обнаженных тела, охваченных порывом какой-то неудержимой страсти. Они освещались мягким светом лампочки, горящей на ночном столике. Лицо женщины и тело ее были красивыми и нежными, но лицо мужчины оставляло страшное впечатление: оно изрыто язвами проказы так же, как и обнаженная спина…
- Тебе не нравится? — глухо спросил Кравцов, не поднимая головы.
- Да, братец, эта вещь по технике — вполне совершенная, — тихо сказал Протасов, — сила чувствуется, но сюжет мне не нравится, неестествен. В жизни такого положения не может быть. Такая красавица, и вдруг… такой оборот.
Сумасшедшая фантазия. Бред. Это полотно сжечь надо. Нарисуй лучше что-нибудь другое. Только возьми реально… Это — мистика…
Кравцов поднял голову, встал, быстро подошел к картине, отодрал ее от стены и, так же быстро свернув, бросил ее под кровать.
- Ты говоришь: такого не может быть? Мистика? — почти закричал он. — Ты говоришь, это — бред, фантазия? Значит, ты сам… Протасов, или ангел, или осел. Значит, ты ничего не знаешь.