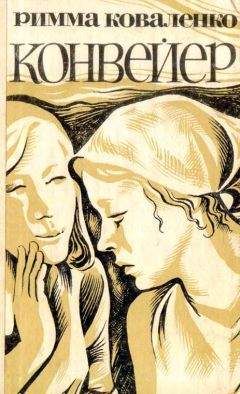— Как я поняла, — сказала Татьяна Сергеевна, — ты в субботу не придешь?
— Приду, — ответила Марина и повернулась к ней спиной. — Как же я могу не прийти, если все придут.
Татьяна Сергеевна всегда гордилась рабочей дружбой, считала ее смыслом своей жизни. Каждую Марину, каждую Соню на части не делила: эта часть на конвейере, а эта — сама по себе, в своей личной жизни. Каждого целиком принимала. Толку ли от Надькиной чистенькой работы, если уроки не учит, двойки в школе хватает, из-под парика завистливым, неумным взглядом на жизнь смотрит? Велика ли радость от Сониных побед — сына растит, институт закапчивает, в недалеком будущем ее, мастера, начальством станет, — если нет в Сонином сердце крупинки сочувствия к другим людям? Выбралась Соня из собственной беды, встала на ноги. Потому что люди были рядом, поддержали. А ведь сама подсобить никому не желает. Где теперь та женщина, мать Юры? Уехала? Или ждет, что опомнится Соня, простит?
После обеденного перерыва Никитин подошел к мастеру. Лицо жалобное, в глазах тоска. Что-то случилось. Знает Татьяна Сергеевна это сиротство на его лице. Точно так же глядит он на членов комиссии в конце месяца, когда те сверяют график монтажа с состоянием работ на новом конвейере.
— Татьяна Сергеевна, корреспондент у меня в кабинете. Вас спрашивает.
— А что его интересует?
— Это он вам сам скажет. Может быть, электролиты.
— А может быть, платье?
— Вряд ли. — Никитин вздохнул. — И все-таки будьте к ним посдержанней. Это я вам не как начальник цеха говорю, а как пострадавший. Помните ту девчонку на молодежной газеты?
Вот откуда его сиротский вид.
В кабинете Никитина сидел за столом пожилой мужчина в кожаном выношенном пиджаке. Лицо тяжелое, темное. Сидел за столом: наизготове раскрытая общая тетрадь, и на ней шариковая ручка, зелененькая, за тридцать копеек. Поднял глаза на Татьяну Сергеевну, поздоровался. Показал, чтобы села напротив, а в глазах ничего, кроме усталости. Татьяна Сергеевна села и, пока он молчал, подумала, что работа у него на большого любителя: хочешь не хочешь, а надо разговаривать с незнакомыми людьми, узнавать у них что-то, а потом еще писать, складывать строчки. Подустал, видать, от казенных разговоров.
— Татьяна Сергеевна, у меня к вам несколько общих вопросов. — Корреспондент не терял времени на пустые разговоры. — Первый такой: кому на конвейере труд в радость, а кому в мучение?
Ей понравился вопрос. Она знало, кому в радость, кому в мучение, только вот как это сказать, чтобы сгодилось для газеты…
— А вы говорите, как думаете, — помог корреспондент.
И вдруг ей захотелось ему понравиться. Пусть бы улыбнулся: вот тебе и тетя! Такую тетю не каждый день встретишь. Но тут же это желание понравиться погасил страх. Ляпнешь что-нибудь сгоряча, потом, как Никитин, будешь меняться в лице при слове «корреспондент».
— Сначала скажу, кому в радость. — Татьяна Сергеевна храбро посмотрела в глаза гостю. — Если человек с уважением относится к самому себе, ему на конвейере будет хорошо.
Корреспондент не перебивал ее, глаза его не то чтобы зажглись интересом, но «распечатались», сморгнули с себя усталость.
— А что такое уважение к себе? — продолжала Татьяна Сергеевна. — Это честность, это когда человек в ладу со своей совестью. А мучаются на конвейере люди мелкие, но с высоким мнением о себе. На конвейере надо точно и аккуратно делать то, что делают все. И это для них мучение. Они думают, что мучение, а я со стороны вижу — наказание. За глупость.
— И много у вас таких мучеников?
— Как и везде: появляются. Только в другом месте они могут задержаться на всю жизнь, а у нас не задерживаются.
— Почему?
Этот вопрос был потрудней. Татьяне Сергеевне хотелось сравнить работу на конвейере с работой в газете, но как работают в редакциях, она не знала. И все-таки отважилась.
— Вот у вас, в газете, есть мученики?
Корреспондент впервые улыбнулся. Лицо стало необыкновенно хорошим, как у всякого человека, который улыбается редко.
— Есть.
— А есть возможность такому мученику сменить свою работу на другую? Чтобы он и в газете остался, но делал работу себе в радость?
— В редакции таких возможностей мало, — уже без улыбки объяснил корреспондент, — человек должен уметь писать, править материал, организовать статью, и, как правило, если он это делает через силу, без радости и удовольствия, то и скрипит всю жизнь.
— Вот видите, — словно упрекнула его Татьяна Сергеевна, — а у нас на конвейере можно оглядеться, найти работу по себе на другом участке.
Корреспондент был доволен ею, она это чувствовала, больше того, она уже точно знала, что там, у себя в газете, он не «скрипит» через силу.
— Вы сходите в отдел кадров, — говорила она, — посмотрите личные дела руководителей производства. Посмотрите трудовую биографию тех, кто пришел к нам из института и кто начинал с конвейера, у кого высшее образование заочное.
— Какая же разница?
— Разница в глаза не бросается, но она характерная. Может, я и ошибаюсь, вы проверьте, но выглядит это так: кто начинал с конвейера или с другого рабочего места, у того жизнь резко отличается от тех, кто заводские стены увидел впервые на институтской практике; у наших больше рацпредложений, больше орденов и других наград, в семье редко у кого один ребенок, а два, три, больше автомобилей, меньше разводов… Действительно, поинтересуйтесь. А то ходят социологи, по двести вопросов анкеты выдают, а такой жизненный вопрос обходят.
Корреспондент снял свой видавший виды пиджак, повесил на спинку стула.
— Я ведь тоже, Татьяна Сергеевна, когда-то на заводе работал. А потом стал в газету писать и поменял профессию. — Он помолчал, пригнул голову к своей тетрадке. — Жена у меня редактором на радио работала. Она и сманила меня на журналистскую стезю. Сегодня четыре месяца, как похоронил. Инсульт…
Вот так сидишь с человеком, ведешь разговор, а что у него на душе, каким горем он переполнен, не знаешь.
— Дети есть?
— Сын. Двадцать четыре года. Хороший парень. В Москве, в аспирантуре. Говорит: переведусь в заочную, приеду к тебе. А зачем, Татьяна Сергеевна? Даже самый родной человек другого родного не заменит. Я вот слушаю вас и думаю: а можно ли человеческую жизнь представить как конвейер? Живет человек, движется вперед, обрастает всяческими подробностями, а потом — стоп, готов, приехали.
— Это вы от горя своего не отошли. Как ваше имя-отчество?
— Михаил Федорович.
— Жизнь, Михаил Федорович, не конвейер. Конвейер в своем конце выдает собранную продукцию. Новенькую, молоденькую. А человек в конце своего пути старый и больной. Мы вот все готовим человека к жизни и не думаем, что его и к старости готовить неплохо бы.
— А я считаю, что нет старости, — возразил корреспондент. — Пока есть силы, нет несчастий — все молодость. Я недели две старым был. После похорон. Силы кончились, утром головы от подушки оторвать не мог. А потом понял: никакой старости нет, а есть жизнь и смерть… Вот куда нас занесло, Татьяна Сергеевна.
Когда Никитин заглянул в кабинет и, помявшись у двери, двинулся к своему столу, гость и мастер решали проблему, почему конвейер будет жить вечно и людей никогда не заменят роботы. Соловьева заметила, как в удивлении вспыхнули глаза на погасшем лице Никитина, и, чтобы уж вконец удивить его, по-свойски спросила у корреспондента:
— А теперь у меня к вам вопрос, Михаил Федорович. Молодой рабочий, как говорится, без году неделя на конвейере, вдруг дарит своему мастеру шикарное платье. Что это? И как быть мастеру?
— Вам подарили платье, Татьяна Сергеевна? — спросил корреспондент.
— Мне.
— Ну и носите на здоровье.
— Спасибо.
— Мне-то за что? — Корреспондент поднялся, надел пиджак.
Никитин пошел с ним рядом, проводил до дверей. Вернулся и похвалил Татьяну Сергеевну:
— Молодец. Так говорила про конвейер, что даже я заслушался. Не конвейер, а какая-то фантастическая планета. О чем он еще спрашивал?
— Говорил, что жена недавно умерла, что старости нет, а просто человек устает жить…
— А про цех? Про конвейер?
— Говорил, что не понимаете вы своего счастья. Хороший у вас мастер Соловьева, сняла с ваших плеч самый трудоемкий участок, а вы ей не помогаете, обижаете, платью дареному позавидовали.
— Я серьезно, Татьяна Сергеевна.
— А если серьезно, он не процентами и фамилиями интересовался. Его суть конвейера интересовала. Знаете, Валерий Петрович, у него сын в Москве учится. Хочет перейти в заочную аспирантуру и приехать к отцу, чтобы тому стало полегче. А ваш сын хорошим человеком растет?
— Надеюсь.
— Вы еще очень молодой, Валерий Петрович. Когда ваш сын станет взрослым, вы по-другому будете чувствовать молодежь на конвейере. Поймете, какие они еще ребята, как им много всего надо, кроме плана и процентов выработки.