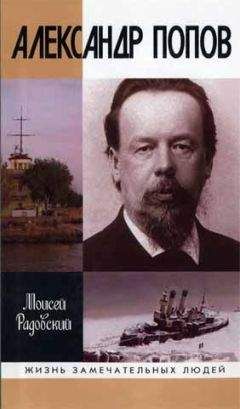– Надо этих редакторов взгреть все-таки! Разве так можно?
Соломон Давидович, сияя покрасневшим лицом, радостной лысиной и новым костюмом, протянул руку к залу:
– Дайте же кончить!
Колонисты закусили губы. Соломон Давидович сделал шаг вперед, положил руку на сердце, закрыл глаза:
И все тошнит, и голова кружится,
И мальчики нахальные в глазах.
И рад бежать, да некуда. Ужасно!
Да, жалок тот, у кого денег нет!
Он кончил и скромно опустил глаза. Но такую сдержанную, хотя и актерскую, позу недолго можно было выдержать. В ответ на бурный восторг публики Соломон Давидович тоже расцвел улыбкой, потом гордо выпрямился, поднял вверх палец и только после этого начал кланяться, ибо публика все продолжала кричать и аплодировать. Наконец закрылся занавес.
В антракте Соломон Давидович пробрался к первому ряду, гордо отвечал на приветствия колонистов, улыбаясь снисходительно, пожал руку Крейцеру:
– Ну, как? Какие овации!
– Слушайте, Соломон Давидович! Вас надули эти подлецы!
– Как надули!
– Они вам подсунули другие слова.
– Другие слова! Не может быть. Вот же у меня слова.
– Ай, ай, ай! Вот… прохвосты. Смотрите, этот самый Борис Годунов говорит исключительно о производственных делах колонии им. Первого мая.
– В самом деле?
– А как же: «Я им навез станков, я отравил литейщиков». Это не Борис Годунов, это вы, Соломон Давидович! И нахальные мальчики…
– А Пушкин, значит, не так написал?
– Я думаю: у Пушкина мальчики кровавые, а здесь нахальные.
– А вы знаете: они-таки, действительно, нахальные! А как у Пушкина про литейщиков?
– Про ваших литейщиков? Какое ему дело? Он же умер сто лет назад.
Соломон Давидович искренне возмутился:
– Ах, какое нахальство! Я сейчас пойду! Я им скажу!
Соломон Давидович бросился за кулисы. Кое-кто попытался убежать от него, но он поймал Игоря Чернявина, главного редактора.
– Как же вам не стыдно, товарищ Чернявин?
– А что такое?
– Пушкин совсем не так написал.
– Мало ли чего? А вы знаете, что Мейерхольд[232] делает?
– Какой Мейерхольд?
– Московский.
– У него тоже производство?
– И еще какое! У нас хоть немного похоже на Пушкина, а у него так совсем не похоже. Такая мода!
– Мода, конечно, это неплохо, но причем здесь литейщики?
– А как же! Вы думаете, при Борисе Годунове литейщиков не было? А кто ружья делал, как вы думаете?
– Они ружья могли делать, но, может быть, у них такого дыма не было?
– Какой там не было! Разве они знали, что такое вентиляция?
– Они могли и не знать.
– Хорошо получилось, Соломон Давидович! Вы смотрите, как всем понравилось. Скоро вам танцевать.
– Я боюсь теперь танцевать. Написано гопак, а может, это тоже, как Мейерхольд.
– Честное слово, гопак!
Соломон Давидович рассмеялся, взмахнул кулаком:
– А, черт его дери! Давайте гопак.
Соломон Давидович возвратился к Крейцеру и успокоил его:
– Я их поругал, но они говорят: теперь все так делают. Мейерхольд какой-то из Москвы, так он тоже так делает. Такая мода как будто.
Крейцер обнял Соломона Давидовича, усадил рядом с собой:
– Верно! А в общем хорошо!
Через четверть часа Соломон Давидович в украинском казачьем костюме, в широченных штанах и в сивой шапке по-настоящему «садил» гопака на сцене. Легкая, тоненькая Оксана еле успевала удирать от его подкованных сапог. Теперь колонисты аплодировали без всякой каверзы: не могло быть сомнений, что Соломон Давидович классный танцор. В его стариковской удали, в размашистой, смелой присядке было много вполне уместного юмора и любви к жизни. Колька-доктор после танца прыгнул на сцену и сказал громко:
– Видели? Пусть теперь ко мне не ходит с сердцем!
Соломон Давидович засмеялся грустно:
– Он не хочет понимать разницу: запорожцы эти самые умели танцевать гопак до самой смерти, и у них ничего не делалось с сердцем. А вы назначьте их заведовать производством, и вы увидите, сколько у вас прибавится пациентов!
Через день после праздника Игоря Чернявин утром сбежал вниз в раздевалку, чтобы взять свое пальто. Колышек № 205 встретил его неожиданной пустотой: пальто не было. Рядом натягивал свое пальто Миша Гонтарь.
– Миша, моего пальто нет.
– Как это «нет»?
– Вот мой номер пустой.
– Перепутал кто-нибудь. Ты поищи.
Игорь в обеденный перерыв пересмотрел все пальто: не изнанке воротника в каждом пальто был вышит номер, но двести пятого не было. Он сказал об этом дежурному бригадиру Брацану. Дежурный посмотрел на него с досадой:
– Что же, по-твоему, украли или как?
– Я обыскал всю вешалку.
– Надо еще раз посмотреть. Куда оно может деться?
Брацан отвернулся от него недовольный. Но после работы он сам нашел Игоря и спросил его сумрачно:
– Нет пальто?
– Нет.
– У Новака тоже нет из четвертой бригады.
– Украли?
Брацан ничего не сказал, видно было, что это слово ему не нравилось.
Вечером Игорь пошел на рапорты бригадиров. Брацан рапортовал:
– Товарищ заведующий! Прошлой ночью с вешалки украдено два пальто – Чернявина и Новака.
Захаров не изменился в лице, не вздрогнул, как всегда, спокойно поднял руку, ответил: «Есть!» И все присутствующие салютовали рапорту дежурного бригадира «в обычном порядке». Но что-то такое было особенное в сегодняшней процедуре рапортов: в лицах не было веселой бодрости, чувствовалось, что последний рапорт не восстановит дружеской непритязательности отношений, колония не перейдет к обычному вечернему настроению, никто не улыбнется и не будет острить. Действительно, приняв последний рапорт, Захаров быстро опустился на стул, выдернул из папки какую-то бумажку, подперев голову рукой, стал читать, читать внимательно, как будто бы один остался в кабинете. А в кабинете стояли три десятка колонистов и, не шевелясь, молча смотрели на него. Наконец Нестеренко шепотом спросил Брацана:
– Какие у тебя подозрения?
К вопросу Нестеренко прислушались, но все знали, что пальто исчезли и похититель следов не оставил. Брацан, однако, был дежурным, он обязан был отвечать за свой день и, следовательно, обязан ответить на вопрос Нестеренко.
Брацан это понимал, и он ответил громко:
– От двенадцати до восьми дневалило четыре человека, все колонисты, конечно, из них подозревать никого нельзя. Лобойко, Грачев, Соловьев и Толенко – все из моей бригады. Я за них ручаюсь: не уйдет, не заснет никто. А теперь другое: из раздевалки нельзя пройти иначе, как мимо дневального. Значит, в окно, в форточку. А как? Форточки там очень маленькие, пальто трудно продвинуть, очень трудно, я сегодня пробовал. Специалист делал.
– Как ночевали сегодня? – спросил Захаров, не подымая глаз от бумаги.
– Проверял. Ночевали в порядке. И дневальные говорят: никто ночью не выходил из здания, а последний пришел из города Зырянский, в одиннадцать часов, был в командировке, по вашему распоряжению. Такое дело… если бы пропало одно пальто, сказали бы… обязательно сказали: забыл где-нибудь. А то два пальто, из разных бригад, Чернявин Новака мало знает.
– Торский! Секретный совет, сейчас, здесь, у меня.
– Есть.
В кабинете остались только бригадиры. Когда ушел последний колонист, Захаров откинулся на спинку кресла:
– Так… Говорите, что думаете.
Торский первый развел руками, сидя на диване в гуще других:
– Говорить трудно. И подозревать опасно, никаких оснований. Я составил сегодня список, за кого нельзя еще ручаться. Что ж… выходит девятнадцать человек… не стоит и объявлять: два пальто того не стоят. Один вор, а восемнадцать на всю жизнь обидеть можно. Просто беда… ни одного вопроса никому нельзя задать. Например, спросить, не выходил ли куда-нибудь ночью…
– Нельзя никого спрашивать, – подтвердил Захаров недовольно.
– Нельзя, я и говорю.
– Вот я скажу, – Зырянский придвинулся на край дивана. – Вот я скажу. Первое: пальто украдены не ночью, а утром, когда все одевались. Это человек нахальный сделал. Просто взял и надел чужое пальто, при всех, может, и Чернявин его встретил, когда в раздевалку входил. А если бы попался, отговорка легкая: по ошибке надел, ничего такого.
– Так не одно пальто, а два.
– Два. Только моего Новака пальто три дня висело, он его не надевал, в цех без пальто перебегал, мои пацаны любят так делать. Значит, Новака раньше, может, еще позавчера украли, а никто и не знал.
– Ты отчасти прав, – начал Нестеренко, но Зырянский сурово на него оглянулся:
– Постой, я не кончил. Второе: пальто это и сейчас в колонии, у кого-нибудь на квартире или в деревне, только я думаю, что не в деревне, а здесь, у служащих, а может, из строительных кто-нибудь за Каина работает. Это не иначе. В город пальто не понесешь: и видно будет, и время требуется; в рабочий день нельзя, а в выходной день наших много бывает на дороге в город. Оба пальто здесь и сейчас, на нашей территории.