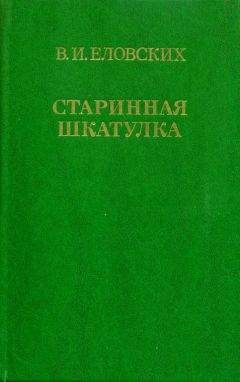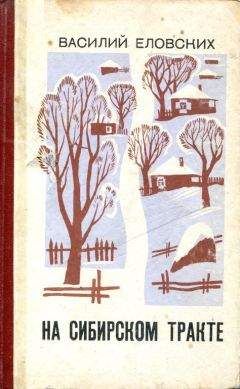— Павел Борисович! Ведь это же безнравственные люди. И они безнравственны во всем.
Павел Борисович слабо, отрешенно улыбнулся:
— Повторяю, не больше, чем на двадцать минут.
С час назад Вера сказала Дунаеву по телефону, что есть возможность арендовать на год трехоконный дом. Хозяева уезжают куда-то на север. Они продадут по сходной цене и дрова для печи. И почти рядом водоразборная колонка. «Год проживем, как у Христа за пазухой», — сказала Вера. Она тоже устраивается на работу. И радуется этому. Хорошая у него жена. Добрая. Все помаленьку улаживается. Но было как-то тоскливо, нехорошо на душе.
В окна по-птичьему остро постукивали леденистые снежинки. Дул северяк. По всему видать, поднималась первая в эту зиму низовая метель.
1986 г.
1
Беда приходит чаще всего почему-то внезапно, воровски. И если она обрушивается в минуты, когда ты чему-то радуешься, чем-то очень доволен, то это особенно плохо, — холодной, оцепеняющей тяжестью обдает все тело, а сердце начинает торопливо выскакивать из груди: тук, тук, тук… Так получилось в тот злополучный день и с председателем Карашинского райпотребсоюза Иваном Михайловичем Васильевым.
…Лето сорок шестого года выдалось скверное: все время стояла нестерпимая жара и почти не было дождей; хлеба выросли низкорослые, зерно мелкое — срам глядеть, в августе вдруг начались, уже ненужные теперь, бесконечные проливные дожди.
Пленум райкома наметили провести в конце октября, когда уже крепко подстывает, дороги твердеют и до райцентра легко добираться. Однако нынешняя осень выдалась тоже какая-то странная: с каждым днем становилось все теплее и теплее, по таежным, непролазно грязным дорогам пробирались только на телегах и с трудом на «газиках».
Райком партии размещался в старом, бывшем кулацком доме, бревенчатом, длинном и нелепом, с высоким порогом, за который люди запинались, маленькими игрушечными оконцами, древними шкафами и диванами, разукрашенными аляповатой резьбой. Народу было — пушкой не пробьешь, сидели в приемной первого секретаря, толпились в коридоре, шумели и, кажется, все до одного дымили едким самосадом. Васильев тоже скрутил из газеты цигарку.
Пленум должен был начаться в десять, а начался в двенадцатом — многие члены райкома были еще где-то в дороге. Голые ветки сирени постукивали в окна читального зала парткабинета, где собирались люди. Там, за окном, без конца нахлестывал дождь. Доклад делал первый секретарь райкома Константин Константинович Рокотов. Иван Михайлович внимательно и втайне-настороженно всматривался в него. Голос у Рокотова громкий, властный, с каким-то даже металлическим оттенком. То факт интересный приведет, то цитату, то пословицу народную вкрутит. Охоч до жестов. Жесты у него разные, и по ним определяли люди, каково настроение у первого секретаря; если он не совсем уверен в своих словах, не знает, как поступить, движения руки скованные, медлительные, если уверен, — неторопливые, твердые — львиные, а если чем-то раздражен — резкие, быстрые. Сейчас Рокотов рубал по воздуху, не поймешь как — вроде бы неторопливо и в то же время резко. Любопытный это человек: говорун и работяга, как все райкомовцы. И в то же время он сильно отличался от них, — был грамотнее и общительнее, носил пиджак и сорочку с галстуком, а не модный и вроде бы обязательный для партработников китель-сталинку с отложным воротничком и, кроме всего прочего, занимался, по мнению многих, совсем несолидным делом — на семейных вечерах играл на балалайке и лихо отплясывал барыню. Он резко выделялся среди людей. Ведь вот интересно: и ростом не вышел, и брюшка нету, и костюм вроде бы простенький и на тебе — человек заметен. Уверенная, даже гордая осанка.
«Как держится, — дивился Васильев. — Какие манеры! Откуда он их набрался?»
Обладая цепкой памятью, Рокотов знал наперечет всех бригадиров, заведующих фермами колхозов и многих стариков-колхозников, мог сказать, кто, когда и в чем отличился и какой допустил проступок. Часто и охотно выступал перед людьми. И его знали в лицо.
Весной приехал лектор из области. Послушал выступление Рокотова и спросил:
— Долго готовились?
— Я не готовился.
— Невероятно!
В посевную и уборочную Рокотов приходил на работу в шесть утра, а то и раньше. Телефонистки соединяли его с колхозами. Услышав резкий, холодный голос первого секретаря райкома, многие председатели колхозов робели, а телефонистки торопливо переговаривались.
— Давай быстрее Бугры!
— Кто вызывает?
— Рокотов.
— Сейчас, сейчас!
В районе жило десятка три Рокотовых. Но когда говорили: «Вызывает Рокотов», все знали — у телефона Константин Константинович.
Он не ругался, не впадал в панику, в суетливость и раздражительность, считая все это унизительным, недостойным настоящего руководителя. Всегда спокоен, неулыбчив, холоден. В области ценили его за исполнительность и безупречное поведение. До войны Константин Константинович был директором детдома и секретарил в райкоме комсомола. И, как говорят, куда с добром работал. Есть люди, которые на любом месте хороши, все им по плечу. Васильев убежден: Рокотов дойдет и до области, такой не застоится на месте. Полезный человек, и надо быть ближе к нему. А все-таки как он сдал за последнее время: только сорок шесть лет мужику, а лицо в морщинах, желтоватая плешь покрыла всю неровную, в буграх (будто кто-то лепил и не долепил) голову.
«Не так-то просто здесь. Сам господь бог и тот, пожалуй, не справится», — подумал Васильев.
Нынче — засуха, а прошлое лето нахлестывали дожди и хлеба в колхозах собрали совсем мало. Зимой от недокорма начался падеж скота. Весной телята уже не могли стоять на ногах и их вывозили на поле на тракторных санях. Парни и девушки убегают в город, видно, легкой жизни ищут. Да и вообще Карашиное — село глухое, сибирское, где-то у черта на куличках. Сеять негде — тайга, болота кругом. Животноводство — так себе. Древесины, пушнины и рыбы тоже немного дают. Что уж там!.. Районишко. Но ведь не скажешь людям, что у них не район, а районишко, угол медвежий. Кто-кто, а секретарь райкома должен воспитывать у людей гордость за свой край. В деревнях одни бабы, седые деды да ребятня. Всех мужиков фронт поглотил. Кто уцелел — не вернулся: в армии остался или в городе пристроился.
— В целом материальные потери нашего народа во время воины составляют две тысячи шестьсот миллиардов рублей, — говорил Рокотов. — Люди не всегда осознают, насколько огромна эта цифра…
«Не простое это дело — говорить общие фразы, — подумал Иван Михайлович. — Бездумные исполнители любят общие слова. Этот не любит».
Он заметил, как у Рокотова быстро, болезненно дернулась правая подглазница. Один раз, но все же… Потом, уже где-то в конце доклада Рокотов улыбнулся какой-то не своей улыбкой — слабой и усталой.
«Измотался. И все же он родился начальником. И, не в пример другим, не старается казаться умнее, не занимается словесной эквилибристикой и ложным глубокомыслием. Фразы ясные, емкие. Почему часто выступающий человек кажется деятельным? И не потому ли у нас так много трибунщиков?»
Да, Васильев не раз замечал: кое-кто пытается судить о человеке по его выступлениям, часто и умно выступаешь — значит толковый работник. А этот толковый может быть лентяем из лентяев. И ничего в нем хорошего нет, кроме громкого, уверенного голоса.
— Надо любить землю, — продолжал Рокотов. — Эту фразу у нас произносят часто. Конечно, надо любить. Но, думаю, этого мало. У человека должны быть по-настоящему развиты внутренняя дисциплина и чувство долга. И человек должен обладать определенной суммой знаний и жизненным опытом. Ведь можно любить и ничего не делать. Или делать, но плохо.
«Так оно!.. А все же он убежден в своей непогрешимости. И можно подумать, что живет без сомнений и колебаний. А если так, не есть ли это признак некоторой ограниченности? Не похоже».
Этим летом райком партии посылал Васильева уполномоченным в колхоз с боевитым названием «Красный боец», отстоявший от райцентра в сорока двух верстах (еще при царе-батюшке меряли). «Красный боец» в срок справился с хлебопоставками. И что же дальше?.. Попросили «продолжать сдачу зерна». Но просьба особая была, одно название, что просьба: вывози зерно и — никаких тебе! Иван Михайлович позвонил Рокотову:
— Константин Константинович! Может, я тут недопонимаю. Но мне кажется, что у нас как-то неладно получается. Какая-то вредная уравниловка. И пора бы кончать с ней.
«Господи, то ли я говорю?! Будто обвиняю его».
— Ну, говорите, я слушаю.
— Может я… не так… Но я хочу сказать, что у нас колхозники — и хорошие и плохие — получают почти одинаково. Правда, ведь? — заискивающе спросил он. — Одна оплата, как ни работай. Бывает даже по двести-триста граммов на трудодень. И в конце года. А если полкилограмма, считаем, что хорошо. И в лучших колхозах, и в самых плохих получают на трудодни одинаково. Так или иначе, Константин Константинович, а мы заставляем передовые колхозы сдавать сверх плана. Почти все у них выгребаем. И получается, что невыгодно быть передовиком-то. Почему так?