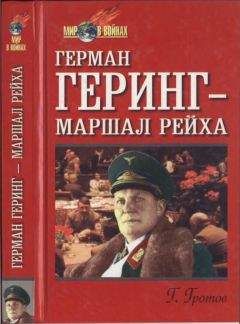— Павел Никифорович!!! Ну зачем нам торговаться? Надо делать рекультивацию. Давайте вместе думать.
Лицо Дорошина было багровым. К чему этот разговор сейчас? Старик еще не оправился как следует от удара. Вот выйдет на работу, тогда все вопросы и надо решать.
— Слушай… Я тебе как ученику своему бывшему говорю: не могу я сейчас отвлекать силы и технику на рекультивацию… Пойми меня… Может, последние годы скриплю… Карьер хочу видеть новый. Понимаешь?
Рокотов удивился тому, что Павел Никифорович не кричит как обычно.
— Я не хочу вас расстраивать. Давайте мы потом поговорим. Когда вы на работу выйдете.
— У тебя в кабинете? Не хочу!
— Хорошо. Я приду к вам.
— Это твое последнее слово?
— Да.
— Ладно. Тогда гляди. У меня все.
Рокотов поднялся. Дорошин сидел в кресле и разглядывал карту.
— До свиданья, Павел Никифорович, — сказал Рокотов.
— Будь здоров, — буркнул тот.
В дверях Рокотов столкнулся с Ольгой Васильевной. Та несла две полные миски окрошки.
— Куда же ты, Володя? — удивилась она. — Вот и окрошка приспела.
— Некогда, Ольга Васильевна… В другой раз. Спасибо большое.
Когда он выходил, то слышал, как она спросила у мужа:
— Опять поругались? Ну что ты за человек такой?
Дорошин что-то ответил совсем неразборчиво.
Уже потом, дома, Рокотов задумался над природой этого закоренелого дорошинского упрямства. В чем тут дело, почему этот мудрый, житейски опытный человек, великолепный специалист и организатор не хочет понять главного: надо делать все так, чтобы не оставлять за своей спиной людских осуждающих взглядов? Торопились, провели дренаж карьеров, а воды в округе нет. А ведь можно было найти выход. Можно. Пусть затратили б больше средств, зато не уничтожали бы природу. И ведь сейчас не хочет понять простого: не нужны по краям карьеров тысячи тонн драгоценнейшего чернозема… На полях он нужен, чтобы родить, чтобы давать людям хлеб. А сейчас вон сколько их, терриконов… Только не из отработанной породы, а из первосортного чернозема. И лежит десятилетиями. Нет. Тут уступать нельзя. Преступно уступать.
И грустно было, и радостно. Грустно оттого, что предстоял новый раунд тяжелой изнурительной и, самое главное, напрасной борьбы с Дорошиным. Ведь все ясно для обоих. Но старик обязательно пойдет «ва-банк». У него принцип.
А радостно оттого, что все было не напрасно. И тогда, когда начинал он кореневскую эпопею в одиночестве, и когда сомневался в победе. Все было оправдано. Будет Кореневский карьер. Теперь Дорошин всей своей энергией начнет двигать его вперед.
Из дома он позвонил Сашке. Передал ему ту часть разговора, которая касалась Кореневки.
— Ну, брат… — сказал Григорьев. — Я уже думаю, что, может, все-таки в лауреаты когда-нибудь с тобой рядом выберусь, а? Надо бы хуторянину сообщить. Он там сейчас ребусы решает. В тоске и печали. Побегу к нему.
Вот так все и было. Вроде и победа, а с горчинкой. Впрочем, если имеешь дело с Дорошиным, по-иному и быть не может…
… Об этом обо всем и думалось сейчас, когда мчался газик по ночному пустынному шоссе и только фары выхватывали из темноты согнутые силуэты деревьев по краям обочины, исхлестанные дождями и вьюгами полосатые километровые столбы. И еще о том, что рядом человек, с которым готов был ехать так хоть вечность. Только невозможно это. Уже Красное проскочили, теперь вот-вот Матвеевка.
Он затормозил на знакомом месте. Вера вышла, поправила юбку.
— Поговорили, — грустно сказала она.
— Что вам сказать, Вера… — Рокотов глядел куда-то в сторону. — Я понимаю… Но я хочу, чтобы вы знали: я не тороплю вас… Вы думайте. У нас времени столько еще… Я только хочу сказать…
— И совершенно ничего не говорите, — засмеялась она. — А вообще вы совсем не оратор, товарищ первый секретарь… К моему величайшему сожалению.
— Я знаю. И все же… За это время я столько думал… В общем, я никогда никого не встречал и не встречу лучше вас… Это не громкие слова, поверьте мне… Это правда. Хотите… хотите я сейчас, здесь… ну, в общем…
— Опять слова, — с притворным вздохом сказала она. — Езжайте домой, Рокотов. И еще вот что: закройте-ка глаза.
Он закрыл глаза, догадываясь, что последует за этим, и почувствовал, как по его губам легко скользнули ее теплые губы. А потом он стоял и смотрел, как она шла к дому. У калитки остановилась и сказала негромко:
— До свидания. Вы слышите, до свидания.
Коленьков с Котенком уехали с ночевкой. Повезли на увал инструменты, еду. Начальник партии предупредил, что теперь роздыха не будет. И так столько времени потеряли. Время на переезды тратить ни к чему. Теть Лида с Саввой ушла на ближайший участок, где только что закончили проработку маршрута. В старом лагере это был дальний участок, а тут — рукой подать. Пару километров. К ужину обещали вернуться.
До вечера Эдька возился с мотором трактора. Мыл его соляркой, менял масло. Когда закончил, тетя Надя позвала ужинать. Вертолет доставил пять мешков картошки, и сегодня она была во всех видах. Даже жареная. Это лучше, чем бесконечные консервы. Сидели за столом втроем: Эдька, тетя Надя и Катюша.
К сумеркам появились теть Лида и Савва. Принесли целый рюкзак кедровых орехов. Савва все время головой качал, сокрушался: вот где покедровать. Гибнет добро, а человеку до него не добраться.
Скучно. Попробовал Эдька без Котенка разобраться в его кинохозяйстве. Заправил ленту, движок настроил. Вывесил полотно. Фильм был знакомый — «Сердца четырех». Включил аппарат, а там все пошло наоборот. Лента не перемотана. Люди спиной пятятся, машина назад мчится. Даже самолет и тот хвостом вперед выруливает. Теть Лида головой покачала и ушла к себе. Савва похихикал немного, зажав подбородок своей ручищей, а потом подошел и выключил аппарат:
— Ладно киношку трепать, Федя… Нехай Котенок вернется. С интересом и поглядим.
Эдька прошагал через лагерь, полез на песчаный склон сопки. Искривленные ветром сосны торчали в разные стороны, вцепившись в землю корявыми корнями.
Ветер тонко посвистывал в ветвях. Облака медленно плыли к северу, открывая иногда бездонную глубину неба.
Тоска. Вот бы с папой поговорить. Эдька представил его: чуть сутуловатый, большие руки на столе сцеплены пальцами. Голова уже почти седая. Голос глуховатый, особенно когда устал.
— Ну, так что будем делать, сын?
Вот так бы сесть против него, рассказать ему все. Отец все умеет поставить на свои места. Посидит с минуту, подумает, потом вдруг скажет:
— Ну, и чего суетиться?
И выложит готовое решение: мудрое и простое. А теперь вот с ним не поговоришь, далеко он. А теть Лида… она странная какая-то стала. Молчит много. А если и заговоришь с ней, то чувствуешь себя как-то скованно. Будто вполуха тебя слушает.
Подошла Катюша. Остановилась рядом:
— Чего ты, а?
Он не ответил. Глядел туда, где у самого горизонта, на берегу реки, виднелись крыши домов.
— Съездить бы, — проследив направление его взгляда, сказала Катюша. — Там по субботам танцы в клубе.
Село было совсем близко. Отсюда, с высоты, казалось, что стоит только пробраться через лесной массив за речкой — и ты уже на месте. На самом деле тут около двенадцати километров. Котенок знает дорогу. Он все знает, этот Котенок.
— Уедешь со мной? — спросил он ее.
— Не знаю.
— Гляди.
Было зло на всех, кто не умеет понять, как ему здесь трудно. А у Катюши такое разнесчастное лицо, что он встал рядом и обнял ее за плечи:
— Ладно…
— Завтра суббота, — сказала Катюша, — там вечер молодежи в клубе. Девчонки в новых платьях… А у меня туфли на платформе… Один раз надевала.
— Ты была бы рада, если б вернулся Василий Прокофьевич?
— Конечно… Только он не вернется. Его в другую партию пошлют.
Эдька злобно отмахивался от мошки. Ее здесь было гораздо больше, чем в старом лагере. Там больше комары допекали, а здесь мошка. Зевнешь — сотню штук заглотал.
А Савва… Какой мужик. Утром сегодня пришел к Эдькиной палатке и приволок самодельный топчан. Четыре чурбана и грубо обструганные доски. Котенок аж взвыл от зависти. Только у Коленькова такой и у теть Лиды. Правда, был еще у Любимова, так он, когда уходил, тете Наде его отдал. А Савва спозаранку сколотил.
— Бери, Федя, — сказал он.
Котенок поводил глазами удивленно:
— Какой Федя? Ты что?
— Мое дело — какой… — И пошел Савва вперевалочку.
Вообще и Котенок мужик ничего. Зануда только. Все о деньгах. Увидал у Эдьки толстый свитер, пощупал, сказал уважительно:
— Сотен на шесть тянет…
— Ты что? Пятьдесят четыре рубля.
— Значит, пятьсот сорок… Малость ошибся… Ты не удивляйся, я все по старым деньгам… Как-то справнее были они. Получишь пачку, так это уже всем видно. А тут… — и рукой махнул.