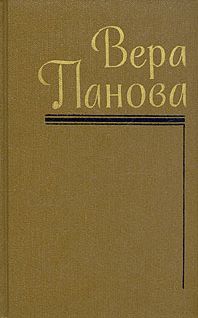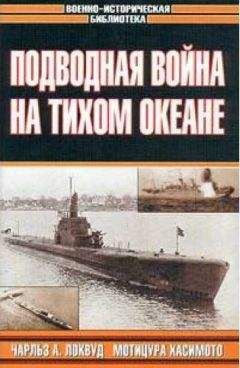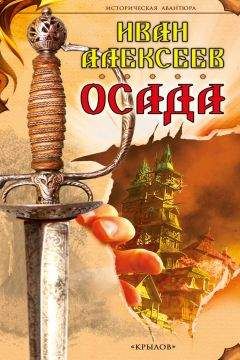Однажды Кошкины пригласили ее с нами погостить у них летом на даче. Дача находилась под Ростовом, за Федоровским монастырем, на берегу речушки Темерник. Мы поехали туда на извозчике. Помню, заехали в монастырь, и монашки показывали нам, детям, свое хозяйство, в том числе плодовый сад и пасеку. У меня была книжечка "Пчелы, осы и термиты", я знала много о пчелах, но ульи видела впервые и впервые же ела сотовый мед, которым нас угостили монашки. Кроме меда на стол были поданы прекрасные сливы, темно-лиловые и янтарно-желтые, и, что бывало редко, нам разрешили их есть сколько угодно, и мы налакомились вволю.
Для пчел у монашек были специальные посевы. Небольшие поля гречихи и медуницы лежали среди зелени розовыми и синими платками, над ними гудели пчелы. Мы проехали также мимо болгарских огородов, необыкновенно красиво возделанных, их содержали болгары-огородники, они продавали свои чудесные овощи на ростовских базарах. Трудно даже поверить, что обыкновенные капустные гряды могут выглядеть так красиво.
Целая аллея белых лилий шла вдоль берега Темерника справа от деревянного мостика, перекинутого через речку. Мостик соединял дачу Кошкиных с дачей Асмоловых. Дочь Кошкиных Наталья Ивановна была замужем за "молодым Асмоловым", как его называли в своих разговорах мама и бабушка Надежда Николаевна. Старики же Асмоловы владели большой табачной фабрикой, впоследствии фабрикой имени Розы Люксембург, и принадлежали к первому ряду ростовских богачей, и я помню, как бабушка Надежда Николаевна возмущалась, что Наталья Ивановна, ее племянница, совсем не умеет пользоваться своим положением, ходит в кофтах навыпуск, не хочет носить брильянтов и вообще "опустилась так, что противно смотреть".
Считать, что бабушка Надежда Николаевна была глупа, я не могу. Она не только не была глупа, но для своего положения в обществе была даже довольно развита. В нашем доме она одна читала газету "Приазовский край" и вообще читала много. В передней стоял ее большой шкаф красного дерева, где в правом отделении висели платья, а в левом на полочках среди белья она прятала от меня свои книги. Увы, я проследила, куда бабушка прячет ключ, и слишком рано начиталась Вербицкой, Нагродской и переводных романов, среди которых первое место занимали романы Локка. Бабушка Надежда Николаевна, а за нею и я читали, таким образом, "Ключи счастья", "Вавочку" и много других книг, насчет которых теперь я понимаю, что лучше бы мне их в детстве и не видеть вовсе.
С гостями бабушка часто заговаривала на политические темы, и за это, я заметила, гости ее уважали. В свое время много говорила она о деле Бейлиса, во время империалистической войны - о поражениях русской армии, а затем главной и любимой ее темой стал Распутин и диковинные дела, происходившие в царском семействе. Не стану вводить добрых людей в заблуждение, будто моя бабушка была передовых взглядов и в душе чуть ли не революционерка, как любят уверять иные мемуаристы. Нет, в нашей скромной семье не было революционеров, но в ней здраво судили о процессе Бейлиса, и недобро поминали Ходынку, и осуждали распутинщину за тот позор, который она навлекает на Россию. И, судя по запомнившимся мне разговорам гостей, это были мнения, свойственные тогда всей массе мелкой русской интеллигенции.
Об этой мелкой интеллигенции, иногда предельно убогой духовно, иногда же находящей в себе силы подняться над этим убожеством, писал Чехов, и не надо эту интеллигенцию вовсе скидывать со счетов, она была вовсе не худшее, что когда-либо бывало на Руси, отнюдь не худшее. Может быть, потому мне так рано стал доступен Чехов, что я вырастала в той же среде, что и он, в тех же нравах и заботах - в частности, до чего же мне понятны его слова, что он всю жизнь по капле выжимал из себя раба.
16 НАШИ РОДСТВЕННИКИ И ЗНАКОМЫЕ
Мой дорогой дядя Сережа был женат на Юлии Дмитриевне Емолаки, греческого происхождения, и жил со своей семьей в милом кирпичном домике на 7-й линии, неподалеку от подворья тети Тони, где жили мы. При доме Емолаки был сад с богато цветущей сиренью и фонтаном, в бассейне которого плавали рыбки. Юлия Дмитриевна, тетя Юля, была строгого вида болезненная женщина, мы ее побаивались, особенно после того, как она однажды при нас больно наказала свою дочь Варю.
Она тоже очень много читала, у них с дядей Сережей было очень много книг, и они охотно позволяли мне рыться в этих книгах и советовали, что прочесть. (Так, помню, присоветовали Джека Лондона.)
Варя была ровесница нашего Ленички, и у нее тоже был братишка на несколько лет младше ее, Юра. Дядя Сережа часто надолго уезжал, но мы и без него приходили к тете Юле, бегали в саду, брали читать книги, рассматривали бабочек и жуков в ящиках по стенам, и часто, когда мы уходили домой, нам дарили большие букеты свежесрезанной сирени. В семье Емолаки был приемыш, его звали Мартын. Помню, однажды под его руководством мы хоронили возле фонтана мертвую рыбку, другой раз - дохлого воробья. Я вспоминала Мартына, когда писала мальчика Ваську в повести "Сережа".
Другой брат покойного отца, дядя Илья Иванович, уже тогда жил в Москве. Он стал хорошим зубным врачом и иногда, как и дядя Сережа, помогал моей маме деньгами. Женился он на женщине много старше годами, Александре Львовне, сыновей которой, гимназистов, он репетировал, еще будучи студентом.
Впоследствии, приехав в 1930 году в Москву, я эту Александру Львовну видела. Была она уже стара и совсем некрасива, причесывалась так же, как бабушка Александра Ильинична, свертывая седые волосы в маленький узелок на затылке. Дядя же Илья был тогда еще свеж и красив, но он очень любил свою жену и, когда она тяжело заболела, ходил за нею до последнего часа, а когда она умерла, очень горевал. После ее кончины он женился вторично, на этот раз на женщине много его моложе, Наталии Федоровне Любимовой.
Дядя Илья Иванович и ее так же горячо любил и уважал, хотя и мучил своим вспыльчивым и капризным характером - "пановским", как называла его покойная мама.
В 1912 году, в мае, у тети Лили родилась девочка. Ее назвали Ириной, и отныне вся семья посвятила себя этому ребенку. Нам, старшим внукам, сразу стало ясно, что с появлением Ирочки мы больше не существуем для бабушки Александры Ильиничны. То и дело мы слышали: "Не трогай Ирочкины игрушки", "Вот ты пришла, а у тебя кашель, ты можешь заразить Ирочку". Даже Варю, которая была с нею особенно ласкова и которую она любила, бабушка стала ласкать гораздо меньше.
Заразы в этом доме боялись как-то преувеличенно, до смешного. Из передней одна дверь вела в кабинет дяди Саши. Не знаю, по каким причинам этот кабинет на некоторое время был превращен в Ирочкину детскую. Во все это время щели в двери были заделаны войлоком - "Чтобы микробы из передней не заползли в детскую", - говорила тетя Лиля.
Конечно, нас, детей, больно задевало такое предпочтение, отдаваемое Ирочке. Мы не могли еще понять, что любовь не раздается поровну, как конфеты, что она избирательна и зависит от множества причин. Нас обижало, что Ирочка и одета лучше нас, и все самое лакомое отдается ей, и лучшие игрушки с елки, и она живет в своем доме (так говорилось при нас), а мы с мамой в наемных квартирах.
Все это, увы, надолго занозило наши души и не содействовало развитию добрых чувств. Конечно, сама Ирочка нисколько в этом всем не повинна. Вряд ли это дитя могло тогда и заметить все это. Это было обыкновенное избалованное дитя, заласканное, задаренное, миловидное (она была похожа на тетю Лилю), и на нее обида наша нисколько не распространялась.
Тетя Лиля говорила, что Ирочка будет воспитана особенно, необыкновенно, что в ней не будет ничего грубого и вульгарного, а когда она вырастет, то выйдет замуж за графа или барона. Тут, несомненно, продолжала работать Евгения Марлитт. Приведу один образчик этого особенного воспитания.
Сидим за обедом: мы, все дети, тетя Лиля и тетя Тоня. Тетя Лиля говорит о ком-то:
- Тонечка, она опять не так положила салфетки.
Тетя Тоня отвечает:
- Лиличка, от нее ничего невозможно добиться, она форменная де-у-эр-а.
Я соображаю, что это "де-у-эр-а" означает "дура", и мотаю себе на ус, что слово "дура", как грубое, нельзя говорить при Ирочке, для нее и придуман заменитель. Тетя Лиля, должно быть, видит, что я намотала это себе на ус, и одобрительно кивает мне со своего хозяйского места. Никто не догадывается, что Ирочка тоже в состоянии кое-что намотать себе на ус. Обнаруживается это через несколько дней, когда при гостях этот ребенок ни с того ни с сего говорит тетке:
- Тонечка, ты форменная де-у-эр-а.
Плоды же всего этого я увидела через много лет, через много верст, когда уже стареющий дядя Саша жил под Ленинградом на даче с почти тридцатилетней Ирочкой и мы пошли купаться на озеро. С нами была и моя дочь Наташа.
Наташа, призовая пловчиха, нырнула в озеро, как рыбка. Я, преодолев боязнь холодной воды, окунулась тоже. И одна бедняжка Ирочка так и не решилась войти в воду, она топталась на берегу, теребила бретельки купального костюма и не поддавалась ни на чьи уговоры.