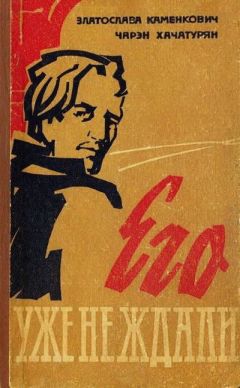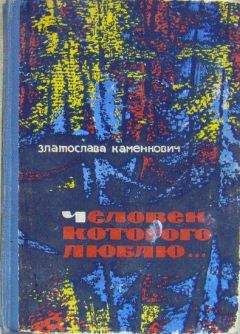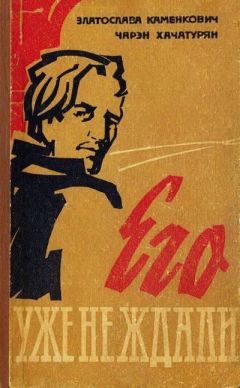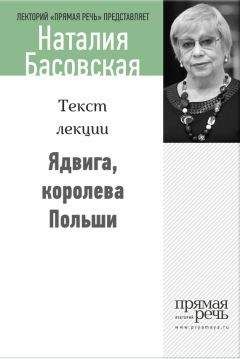Вайцель открывает портсигар, бросает в рот мятный леденец и угощает Ромку.
— Ты голоден? Да? Дайте ему поесть, — обращается Вайцель к комиссару.
Ромка просветлел и с благодарностью, подмеченной Вайцелем, спрашивает:
— Вы, пан, всех из тюрьмы выпускаете?
— Садись, мальчик, — ласково приглашает Вайцель. — Ага, колбаска, сыр — чудесно!
Ромка робко присел на край стула и с жадностью смотрел на еду, но не дотрагивался до нее.
— Не стесняйся, голубчик, ешь. — И вдруг, сердито сверкнув глазами на надзирателя, Вайцель кричит: — Уходите отсюда! Напугали бедного мальчика…
Надзиратель вышел. Ромка набросился на еду.
— Дайте мальчику пить!..
Вайцель, незаметно для Ромки, подмигнул комиссару тюрьмы. Тот направился к шкафу.
— Ай-яй-яй! Синяки? Они тебя били? — сочувственно качает головой Вайцель.
— Да, пан, — отвечает Ромка. — Тот… который ушел… Так бил сапогом в живот и куда попало.
Комиссар тюрьмы ставит перед Ромкой стакан с вином.
— Куда попало? Негодяй! Как он посмел бить ребенка? Комиссар, я приказываю вам прогнать прочь этого разбойника! Пей, мальчик. Как тебя зовут?
— Ромка!
— Хорошее имя. Ну, пей, Ромка. Подкрепись.
— Это вино? — подозрительно косится на стакан Ромка.
— Оно сладкое, как лимонад. Пей.
— Я вина не пью, пан.
— Пожалуйста, можешь не пить. Ты наелся?
— Спасибо пан, наелся.
— Чудесно. Уберите посуду, пан комиссар. Скажи, Ромка, ты грамотный? Читать, писать умеешь?
— Да, пан.
— О, так ты же чудесный мальчик! Как они посмели арестовать тебя? Это им даром не пройдет!
С доброжелательной улыбкой Вайцель кладет перед Ромкой протокол и подает ручку.
— Вот здесь, внизу, красиво и разборчиво напиши свое имя и фамилию.
Ромка склоняется над бумагой. Глаза его пробегают по строчкам.
Вдруг он, пораженный, отшатнулся. Теперь он понял, что означали слова Казимира «не подписывай!»
— Пан, так тут же все неправда!
— Пиши… имя, фамилию!
Нахмурив белесые брови, Ромка отрицательно качнул головой.
— Пиши! — приказывает Вайцель, больно схватив мальчика за плечо.
— Нет!
Вайцель с силой оттолкнул Ромку. Мальчик отлетел к стене и, ударившись головой, упал.
— Ну, подпишешь? — как большая хищная птица, склонился над Ромкой Вайцель.
— Нет! Никогда! — подняв голову, с недетской решительностью и ненавистью ответил Ромка.
Вайцель, точно обезумев, ударил его носком ботинка в бок.
Мальчик потерял сознание.
— Облить водой! В карцер! — с перекошенным от ярости лицом прохрипел Вайцель.
А у ворот тюрьмы под ливнем собрались матери, жены и дети рабочих.
Пятые сутки льет дождь. Но изможденные, плохо одетые люди, пришедшие к тюрьме, не обращают внимания на ливень. Они стоят здесь днем и ночью, требуя освобождения своих кормильцев.
Похоронив Ярослава и Катрю (ее гонведы зарубили на Краковской площади), превозмогая нестерпимую боль и тяжелое горе, к воротам тюрьмы каждый день приходят Анна и Остап Мартынчук. Здесь и Христина с детьми. Вся их жизнь сейчас превратилась в ожидание…
На первый взгляд, высокий белый дом с красивыми лепными украшениями, с матовыми стеклами на фальшивых окнах, занимающий целый квартал, не внушает страха, хотя все знают, что здесь — тюрьма. Но тот, кому хоть раз пришлось побывать внутри здания, хорошо знал: это дом, как и вся Австро-Венгерская империя, — олицетворение лжи и лицемерия.
В мрачном коридоре с множеством тяжелых, обитых железом дверей, ходит надзиратель. Стукнув кованым нос-ком сапога в дверь, он ждет ответа. И когда узник отзывается: «Естем!», подходит к другой двери и снова стучит.
…Целые сутки изнемогает Ромка в карцере. И чудится измученному мальчику, будто он пришел в домик Сокола… Спасаясь от полиции, Ромка вслед за отцом выпрыгивает через окно в сад, а их догоняет Гай… Стройка… Рухнули леса, и Ромка в ужасе закрывает лицо руками…
— Тату! Тату! Татусю! — стонет маленький узник.
…Вот Ромке кажется, что он вбегает под арку Успенской церкви. Стахур выстрелил в Ярослава…
— Где Кузьма Гай? — кричит Ромка.
От своего крика мальчик на мгновение приходит в себя. И снова бредит.
…Он, по пояс в воде, едва поспевает за Казимиром. Стахур целится в Гая… Выстрел…
По коридору идет комиссар тюрьмы.
— Пан комиссар, мальчишка давно не отзывается, — вытягиваясь в струнку, докладывает надзиратель.
— Тащи его в камеру!
В общей камере Гай от волнения не находит себе места.
— Скоро сутки. Бедный Ромусь…
— Он не согнется, весь в отца, — успокаивает Богдан, лежа на нарах.
Вдруг Богдан услышал слабый, прерывистый стук в стену.
— Тихо… — прислушиваясь к стуку, попросил Гай.
И когда в камере стихло, стук стал отчетливее. Все насторожились.
Богдан шепотом начал расшифровывать звуки тюремного «телеграфа».
«Говорит Тарас, говорит Тарас… сижу в одиночке… Передайте Гаю. Стахур сыпак… Стахур сыпак…»
— Видно, не знает, что Стахуру — капут, — сказал Казимир.
— Тише, — раздраженно оборвал его Богдан. — Слушайте! «Передайте Гаю — Стахур сыпак… Верьте мне… Стахур… Слушай, Гай… Слушай, Гай… Каролина раскрыла тайну Шецкого. Ян Шецкий — агент Вайцеля. Ему поручено…»
Стук в стенку неожиданно прекратился. Все ждут. Через минуту по тюремному «телеграфу» снова начали передавать, только на этот раз громче и отчетливее.
— Говорит Тарас, — расшифровал Богдан. — Передайте Гаю, Казимир Леонтовский…
Богдан выдержал паузу и, будто не веря себе, вымолвил:
— Сыпак!
«Телеграф» замолчал.
Все взоры устремились на Казимира. Одни смотрят недоуменно, другие — враждебно. Те, что стояли около него, отошли.
Казимир растерянный, бледный. Губы его еле произносят:
— Как? Я?..
Люди смотрят на Гая и ждут, что он скажет.
Гай, опустив голову, молчит. Вот он выпрямился, испытующе посмотрел на Казимира и встретился с его честными, исполненными невысказанной обиды глазами. Тихо, как бы в раздумье, Гай говорит:
— Вы обратили внимание: первый раз стучали тихо, с опаской, человек остерегался, чтобы его не подслушали надзиратели. Это был Тарас. А второй раз стучали громко, нагло, никого не боясь… Так мог стучать только враг.
— Чистая правда, — горячо поддержал его Павло Геник.
— И почерк не тот, — заметил Богдан. — Ведь у нас условлено первую фразу всегда повторять дважды.
— Провокация. Хотят счеты свести. Казимир им, видно, чем-нибудь крепко насолил, — пояснил Гай.
За дверью послышался звон ключей. Дверь распахнулась, и надзиратель втолкнул Ромку. Мальчик сделал два-три шага, пошатнулся и упал. К нему подбежал Гай, поднял и отнес на нары.
— Напейся, мальчик, — подал кто-то кружку с водой.
Ромка не переводя дыхания выпил воду и с немой мольбой протянул кружку, чтобы дали еще.
— Налей ему, налей, Андрей, — позволил Гай.
— Дядя Кузьма, они хотят вас казнить… Где Казимир? — прошептал Ромка.
И когда все расступились, Ромка увидел Казимира, одиноко стоящего в противоположном углу камеры.
— Казимир… я… я ничего не подписал…
Все снова настороженно посмотрели на Казимира.
— Ведь вы тому пану в зубы дали? — слабо усмехнулся Ромка. — Я видел, как он… кровь утирал…
— Не тот ли пан хотел отомстить Казимиру? — спросил Гай.
Нервы Казимира не выдержали, и он заплакал.
— Жизнь, — вздохнул Богдан, точно одно слово могло передать все его чувства в эту минуту. — Жаль Ярослава Калиновского… Ты только подумай, Кузьма, отец — хитрый адвокат, миллионер, шкуру с нас драл, а сын голову сложил за рабочее дело.
В разговор вмешался Василь Омелько.
— Побойтесь бога, люди! Ярослав — не сын миллионера. Фамилия Калиновского к нему неправдой прилипла.
— Как так? Откуда вы знаете? — удивился Богдан.
— Стало быть, знаю, если говорю. Вот послушайте, люди. Минуло с тех пор больше двадцати лет. Доля нас тогда в Вену закинула. Работали мы с Дариною, женой моей, в пансионе, у одной фрау. Я, конечно, конюхом, садовником, а Дарина — кухаркой. Однажды приезжает в пансион миллионер, этот самый пан Калиновский, снимает весь дом. Привез он с собой молодую, красивую жинку и ее мамашу. И вот, люди, когда у молодой пани родился сынок…
— Ну вот, а говорили — Ярослав не сын Калиновского, — с упреком прервал рассказчика Богдан.
— Нет, я и сейчас говорю, не сын, — упрямо стоял на своем Омелько. — Когда в газете напечатали, что в России казнили одного революционера, пани Анна, так звали нашу пани, сильно захворала…
У Гая перехватило дыхание, в глазах замелькали черные круги, словно он долго-долго смотрел на солнце.
— Дитятко кормить надобно, а у пани молоко пропало, — рассказывал Омелько. — Моя Дарина не могла слышать, как дитя кричит, пошла в кормилицы. Пани Анна полюбила Дарину за доброе сердце, да и открылась ей, что не жинка она пану Калиновскому. Обманом заманул он ее и мать в Вену, обещал мужа пани Анны спасти от смерти.