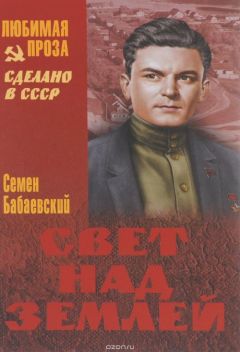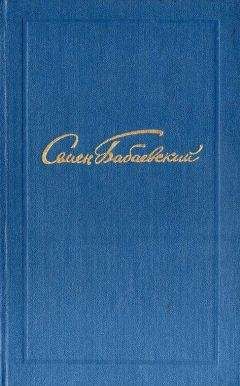— Погоди, погоди с полевыми условиями, — перебил Кондратьев. — Известно ли тебе, что по всему району второй день идет посадка леса?
— Известно, но я признаю… — светлые глаза Алешкина потускнели. — Моя вина, Николай Петрович…
— Да ты погоди каяться… Что делается в «Рассвете»?
— Делается в общем, я бы сказал…
— Лес сажать начали?
— Николай Петрович, вину свою я признаю целиком и полностью, — не задумываясь, сказал Алешкин, и теперь светлые его глаза снова заиграли веселостью. — Тут мы, Николай Петрович, надо прямо сказать, недосмотрели, и в первую очередь я недосмотрел.
— Да какой в этом толк, ты недосмотрел или кто другой! Дело-то стоит?
— Я виноват и, как секретарь парторганизации, сознаю…
— Павел Павлович, ну куда это годится! Да ты неделю тому назад тоже и сознавал, и признавал, и каялся… А что изменилось на деле? Ошибки признаешь — и снова те же ошибки допускаешь? Карусель — вот что это такое.
— Я никогда критику не отвергал… Я все признаю.
— Да это легче всего — и не отвергать критику и признавать ошибки, каяться и опять ничего не делать. — Кондратьев приоткрыл дверку, посмотрел на молчаливо-строгое лицо Алеши. — Там у нас местечко найдется. — Обратился к Алешкину. — Вручи коня Скворцову, асам поедешь со мной. Сегодня «Рассвет» начнет посадку леса.
Покрякивая и не говоря ни слова, Алешкин покорно забрался на сиденье, и машина тронулась.
«И что мне делать с этим кающимся грешником, — подумал Кондратьев, устало закрывая глаза и прислушиваясь к звяканью цепей на шинах. — Заменить? Нет, придется с ним повозиться…»
Впереди одна выбоина следовала за другой, и колеса, попадая с разгона в лужу, вскидывали столбы грязной воды.
В эти дождливые дни на равнине между Белой Мечетью и Яман-Джалгой среди обычного осеннего пейзажа появились незнакомые глазу тона и окраски. По всему полю — два раза поперек и один раз в длину — протянулись сизо-черные пояса, а что это за пояса, издали нельзя было распознать. Очень они напоминали дороги, но почему бы там быть дорогам, когда невдалеке, по берегу Кубани, пролегает Беломечетинский тракт. Скорее всего, это лежали незаконченные прогоны зяблевой вспашки; видимо, тракторы прошли раз по шесть, а потом бросили и переехали на другое место. Но почему по этой пахоте красноватыми, чуть приметными рядочками тянулись посадки с подпорками в виде таркал? А может, это виноградники? Но кто же тут, на черноземе, станет сажать виноградники?..
И только когда подъедешь ближе, посмотришь — невольно улыбнешься: да, точно, это дороги, только не шоссейные, а лесные; молодые дубки и ясени переехали с Чурсунского острова и удобно поселились на этом просторе. Деревца были еще так юны, что покачивались от маленького ветра, а все же стояли стройно; по желтым, с красноватой подпалиной листьям было видно, что и место им пришлось по нраву да и корни уже покойно и тепло улеглись в сырой почве.
Катилась арба в бычьей упряжке; на арбе желтели молодые деревца, — они стояли одно к одному, напоминая собой кустарник…
— Эй! Подходи! Разгружай! — прокричал возница, становясь на дышло и соскакивая на землю.
Бригада поднялась, разделилась на звенья и занялась привычным делом; человек десять, среди них Костя Панкратов и еще четыре дюжих мужчины, окружили арбу и начали снимать сеянцы, осторожно складывая их корень в корень, боясь, чтобы не обсыпалась желтоватая чурсунская почва; затем мужчины, загребая в оберемок целый куст, уносили деревца туда, где для них были приготовлены лунки — рядом рябела бугорками свежая земля; человек двадцать, большей частью женщины, растянулись по вспаханной ленте на километр и заготовляли все новые и новые местечки для дубков и ясеней, — от лопат отлетали комья, влажные и до блеска черные. Посадку производили обычно попарно: одна женщина ставила в ямку веточку, становилась на колени и расправляла корешки, слегка присыпая их размельченным черноземом, затем выравнивала стебелек по натянутому шнуру; вторая женщина, низко нагибаясь, быстро-быстро, как бы боясь, чтобы это крохотное деревцо не убежало снова на Чурсунский остров, засыпала землей и притаптывала ногами.
— Ого! Харитон Егорыч — силач!
— Ты погляди, сколько лесу поднял!
— Бревен сто, не меньше!
— Великан!.. Вот тут и клади! Девки, разносите по рядкам!
— Тетя Фекла, не коси глазом.
— У нее глазомер плохой.
— Ровнее ставь деревцо. Видишь — шнур!
— Красота в чем, знаешь?
— В стройности.
— Вот-вот.
В другом конце полосы слышался раскатистый смех. Там деревца сажала Ефросинья Ивановна, молчаливая, уже немолодых лет женщина из Яман-Джалги; ее обступили девушки и от души смеялись. Дело в том, что пожилая женщина ставила деревцо в ямку и, поворачиваясь своим грузным телом так, чтобы укрыться от людских глаз, засыпала корешки и тут же украдкой крестила стебель.
— Ефросинья Ивановна! — крикнула девушка. — И зачем вы их крестом осеняете?
Вот тут и поднялся смех, и послышались выкрики:
— Эти же деревца пойдут в будущую жизнь, а вы их крестите.
— Вы б их еще сбрызнули святой водицей!
— Чего зубоскальничаете? — сердито сказала Ефросинья Ивановна. — Хоть вы и молодые, а не ваше дело мне указывать… Крестить я их не крестила, а вот слова им такие шептала.
— Какие ж это слова?
— А такие… радостные.
Осень. Дни короткие, небо хмурое, дождевое. Но и в эту пору станицы и хутора опустели — на большом пространстве от Усть-Невинской и до Яман-Джалги люди сажали леса. Тысячи лопат врезались в распаханную, мокрую почву, — она блестела черным глянцем. Женщины все так же, наклонившись над лунками, расправляли темные ниточки корешков, а натруженные их ладони сжимали стебельки, желая, чтоб росли они стройно. Двигалась по степи вереница подвод, а на подводах желтели кусты, а за кустами торчали шапки погонычей — молодой лесок уезжал с Чурсунского острова.
Подымаясь на возвышенность, Кондратьев выходил из машины и подолгу смотрел вдаль. Всюду, от станицы к станице, лежали лакированные пояса земли, и по ним рассыпались люди, подводы, тракторы с огромными плугами; стояли небольшие балаганы, наскоро сделанные из соломы, горели костры — по степи расплывался горьковатый запах дыма; во многих местах пояса уже покрывались точечками или крапинками: это был молодой, только что посаженный лес…
Кондратьев приложил ладонь к глазам, сказал:
— И что там такое в этой долине? Будто обоз с сеянцами, так почему он стоит? И быки не выпряжены? И эти верховые чего-то кружатся?.. Яша, сумеем ли мы проскочить вон в ту долину? — спросил он у шофера, усаживаясь в машину. — Выехать бы прямо к этому обозу…
— А почему же мы не сумеем? Сумеем проскочить, и прямо к обозу. — Спускаясь с горы, Яша добавил: — Николай Петрович, а вы знаете, по-нашему, по-шоферскому, жизнь похожа на дорогу…
— Это как же так — похожа?
— А очень просто. — Яша нажал правую педаль, и колеса с писком поползли по песчаной почве. — Как в жизни бывает всякое — и хорошее и плохое, так и на дороге: бывают прогоны отличные — едешь, и сердце радуется, а бывают подъемы, спуски — вот как зараз… А как живет человек? То у него жизнь катится гладко, как по асфальту, а то, смотришь, налетел на выбоины, и пошло его трясти… Я знал одного шофера, он был мне даже другом…
И не успел Яша поведать о жизни своего друга шофера, машина выскочила на дорогу и подкатила к подводам. Да, Кондратьев не ошибся: бычий обоз в пять подвод был нагружен сеянцами. Деревца, одни совсем голые, как хворостинка, с тонкой, лоснящейся коркой, другие в красноватых и желтых листьях, лежали наискось, верхушками на боковинах ящика; корешки, слегка присыпанные землей, сходились на дне подводы. Возчики — три молоденькие девушки, в коротких ватниках и в теплых платках — держали налыгачи в руках и сердито посматривали на всадников; две пожилые, угрюмые на вид женщины с кнутами в руках преградили всадникам путь. Одну из них Кондратьев узнал: это была Лукерья Ильинишна Коломейцева.
Выйдя из машины, он присмотрелся к всадникам и усмехнулся, — на конях сидели Хворостянкин и Павел Павлович Алешкин. Ни женщины, ни кавалеристы, увлекшись горячим спором, не заметили появления Кондратьева и продолжали разговаривать громко и бойко.
— Давай дорогу! Все одно не подчинимся и не повернем на ваш участок! — слышался грозный голос Лукерьи Ильинишны. — И ты нам не грозись коммунизмом, понятно? Эй, девчата, погоняйте быков!
— А я требую, — гудел Хворостянкин, — ты сперва дай ответ, по какому такому наряду получила посадочный материал и почему ты его заворачиваешь в свой колхоз?
— А мы получили без наряда.