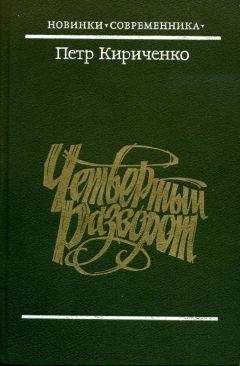Другой поинтересовался и, услышав ответ, ничего не сказал, пошел по коридору так, будто бы и не останавливался. Верно, он был самым искренним. И мне пришло на ум, что ведь и я раньше, узнав что-то похожее, не кидался к потерпевшему, не предлагал помощь: в лучшем случае говорил ничего не значившие слова. Вправе ли я теперь ожидать чего-то иного? Разумеется, нет, и пришлось снова согласиться, что пожинаем то, что посеяли.
Встретившись в коридоре с Рогачевым, я не поздоровался и почувствовал, как нелегко это делать. Он понял, и в следующий раз сам отвернулся от меня. Саныч расспрашивал меня, как я живу и собираюсь ли куда поехать, успокоил, сказав, что в жизни все оказывается зачем-то нужно, и пригласил к себе в деревню. Тимофей Иванович при встрече обнял меня, но, как всегда, ничего не сказал. В том же коридоре мы несколько раз встречались с Ликой, здоровались, но не разговаривали. Она все еще обижалась на меня; деловитость ее прошла, она выглядела равнодушной и старше своих лет. Я думал о ней, но не находил в душе сочувствия и однажды, заметив ее, зашел в комнату машинисток, чтобы не здороваться.
За четыре месяца мне приходилось дежурить на телефоне, писать отчеты, выполнять мелкие поручения и даже косить сено на аэродроме. Учитывая важность задачи, на поле приезжал сам Петушок. Он махнул дважды косой, воткнул ее в землю и сказал:
— Удовольствие, а не работа.
Сел в машину и укатил.
В середине августа я оказался в Одессе, на 12-й станции Большого Фонтана, в неказистом отдельном домике, который своими размерами ровно вдвое превышал добротную собачью будку. Можно смело утверждать, что мне повезло: август — самый разгар пляжного сезона, и свободную комнату отыскать не просто. Это я понял позже, а когда прилетел и добрался до моря, то беззаботно и беспечно шел по улице, рассматривая дома, сады, и уютные дворики, где тень создавалась то виноградной лозой, то грецким орехом. Заманчивые дворики, и мне казалось, что в каждом из них найдется место для меня. Я шел и как бы даже выбирал и увидел высокий белый забор, железную калитку, за которой виднелась зелень и крыша дома. Подумалось, что за такой прочной стеной, должно быть, очень спокойно жить. Подтянувшись на носках, я заглянул через калитку: тесный дворик с грецким орехом, крыльцом дома и летняя кухня. Чуть в стороне, вдаваясь в огород, стояла аккуратная будочка с маленьким окном, завешанным белой материей. Не раздумывая, я постучал.
К калитке подошел невысокий, на удивление бледный мужчина, молча на меня посмотрел. Я поинтересовался, не сдается ли комната. Он без слов повернулся и ушел в дом, и тотчас оттуда выскочила женщина, легко пробежалась по дорожке. Я повторил свой вопрос. Она понимающе кивнула и впустила меня во двор. Там было чисто подметено и полито водой, чтобы прибить пыль. Хозяйка сразу сказала, что у нее есть комната на четверых.
— По два рубля, — добавила она, взглянув на меня оценивающе, будто сомневалась, при деньгах ли я.
Войдя в дом, я поздоровался, но мужчина, снова ничего не ответив, отвернулся к окну. Хозяйка улыбнулась, отчего лицо ее сморщилось в улыбке, и пояснила:
— У нас Шайтан подох, собачка, а он переживает.
Это было похоже на своеобразное извинение, и я кивнул. Мы вошли в просторную, выбеленную известью комнату, которая своим видом напоминала больничную палату. На стенах не висело даже самой дешевой картинки, а четыре кровати по углам выглядели очень уж сиротливо. Жильцов в этой комнате еще не было: хозяйка сказала, что отдыхала целая семья и позавчера выехала.
— А что там за домик во дворе?
— Домик для жизни, — ответила хозяйка. — На двоих.
— Свободен?
— На двоих, — повторила она, и мы вышли во двор.
Хозяйка не спросила, понравилась ли мне комната, поняла, наверное, и так, и повела в домик.
Собран он был из бросового материала, но аккуратно и с чувством. В длину как раз по железной кровати, высотой — метра два, так что нагибаться не приходилось. У кровати стояла низенькая, покрашенная белилами табуретка, а к подоконнику был укреплен откидной столик величиной с самолетный поднос. Стены оклеены бледными обоями, над кроватью висела репродукция из «Огонька» — бесконечное хлебное поле, прохваченное резким порывом ветра. Лампочка свисала с потолка на длинном шнуре, как восклицательный знак, и ее можно было нацепить на любой гвоздь.
— Нравится? — спросила хозяйка и, когда я ответил, что домик и впрямь хорош, добавила: — Лучше сдать семейным.
— Да в нем и одному не разгуляться.
— Что да, то да! — легко согласилась она и неожиданно закончила: — Но вдвоем — в самый раз!
Веселая, ничего не скажешь.
Мы сторговались и познакомились: звали хозяйку Нина Васильевна. Она поводила меня по двору, показывая, что где находится, снова вспомнила о собаке и сказала, что ее отравили.
— А зачем ее травить? — спросила она и сама же ответила: — Яблоки покоя не дают.
И ткнула пальцем в сторону сада.
В это время в калитку постучали, и Нина Васильевна побежала туда. Через минуту она вернулась с каким-то свертком, прошмыгнула в дом и, выйдя оттуда, поинтересовалась моей работой. Я сказал, что выполняю отдельные поручения при одном небольшом начальнике.
— Торговый человек?
— Нет, а что?
— Да так, — уклончиво проговорила она. — Может, достал бы что, если на базе.
— Ну, что именно? — поинтересовался я, подумав, что уж этой-то женщине ничего не надо: дом, сад, рядом море,
— Мало ли что потребуется, — ответила Нина Васильевна, показала, как справиться с хитрым замком калитки, и пошла в дом. Я же отправился на море, до него и ходьбы-то было минут пять.
В первую же ночь, когда я сидел на пороге своего домика, смотрел в темноту и на проглядывавшие сквозь листья звезды, на заборе появилась какая-то тень. Что-то хрустнуло неподалеку, и воришка, верно еще днем наметивший краснобокие яблоки, сторожко замер, не решаясь спрыгнуть в сад. Сидя на заборе, как на лошади, он прислушивался, но вокруг было тихо, и это его успокоило. Как только он занес ногу, намереваясь спрыгнуть, я заскулил маленькой шавкой и смолк. Он снова замер, и снова вокруг было тихо и спокойно, как бывает в саду в погожую летнюю ночь. Где яблоко глухо стукнет да ветка, освободившись, шумнет, а так — удивительная тишина. Воришка решительно перекинул ногу и хотел спрыгнуть, но я залаял так испуганно и звонко и вслед за этим зарычал, как рычит только знающая себе цену собака, что его сдуло с забора. Убегая, он затопотал ногами по асфальту, но вскоре и это растаяло. Стало жаль беднягу и вспомнилось, как я сам, бывало, шастал ночами по садам, не боясь особенно ни хозяев, ни собак. Собаки относились ко мне терпимо, и если и лаяли, то беззлобно, будто бы знали, что много я не возьму... Нина Васильевна возникла в окне белым видением и со сна сердито зашипела:
— Замолкни, Шайтан! Отравить тебя мало! Я тебе!..
Затем, видать, вспомнила, что собаки уже нет, выругалась по-мужски крепко и пропала в темной глубине комнаты.
Лаять я научился в детстве, когда, как говорила моя мать, оставался один на хозяйстве. Если, конечно, считать хозяйством приблудившуюся курицу и щенка Шарика. Курица была глупой и доверчивой и требовала только, чтобы ее не прогоняли, и каждый вечер устраивалась спать на ветке вишни. Шарик проявлял непутевый характер и настырно ломился в дом. Курицу мы съели, несмотря на то что привыкли к ней, а Шарик, повзрослев, убежал на поиски лучшей доли. Мать моя занималась тогда тем, что доставала тетради и учебники для школ, и часто, оставив мне буханку хлеба, маргарин и пятерку денег, уезжала в непостижимо далекие для меня Прилуки. Она целовала меня, плакала и наказывала никому не открывать дверей, повторяя не в первый раз, что обернуться за день она не успеет и возвратится завтра к вечеру. Она просила не тратить деньги на мороженое, а сходить в столовую. Мне было шесть лет, и я легко обещал выполнить все ее просьбы в точности, но как только мать выходила за дверь, я забывал решительно все: допоздна гонял с дружками по улицам и, не вспоминая о столовой, тратил деньги на кино и мороженое, а вечером, накинув на дверь кованый крючок, жевал хлеб и читал по складам «Даурию», которую мать постоянно прятала и которую отыскать в нашей комнате было совсем просто. Я никого, кроме цыган, не боялся, а их тогда было множество. Они без устали кочевали и, бывало, надолго разбивали шатры неподалеку от железнодорожного вокзала. Днем их гортанная речь полоскалась по дворам. Я откуда-то знал, что они крадут маленьких детей, и, едва заслышав около дома чьи-то шаги, лаял так, как лаял когда-то Шарик. И тем спасался.
Сегодня это умение пригодилось мне, наверное, в последний раз, и, сидя на пороге, я подумал, что только в детстве можно свято верить, что лай с чужого голоса способен защитить. Воришка, которому так и не удалось попробовать яблок, наверняка давно спал, а я все сидел в темноте и тишине ночи, смотрел, как над ветками яблонь уносилось раскинувшееся крестом созвездие Лебедя, и думал о том, что, сколько ни пытайся, не сможешь постичь ни жизни, ни звезды, ни себя, и, возможно, самое лучшее — и не пытаться, и счастлив тот, кому от рождения дарована способность просто жить и, если и удивляться чему-то, то не особенно, так сказать, в разумных пределах. Но с другой стороны — каковы эти пределы? Да и должен ли человек ограничивать себя и жить так, словно бы ему заранее известен предел. Вопросы! Похоже, я хотел убежать от них, и мой приезд на 12-ю станцию напоминал самое примитивное бегство, хотя я убеждал себя, что море излечивает все болезни, что я должен загореть и стать настолько здоровым, чтобы комиссия разрешила мне летать.