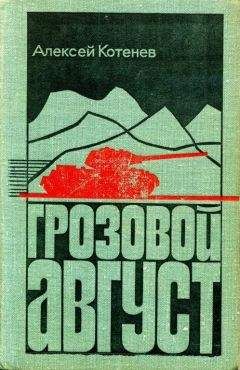Старик на минуту притих, прислушался к шуму дождя. С потолка стекали капли воды, падали на стол, на жестяную кружку и огурцы, брызги летели на стекло фонаря.
— Мне часто вспоминается спектакль, который я смотрел в молодости в Питере, — заговорил священник после минутного молчания. — По сцене ходил несчастный человек и говорил самому себе: пройдет дождь, и все в природе освежится. Только меня не освежит гроза... А впрочем, нужно ли это? — Он тряхнул головой и заговорил громче: — Не в этом суть. Главное, вы пришли на маньчжурские поля. «Ныне отпущаеши, владыка, раба твоего», — говорил святый Семион, увидев младенца. Да, да. Теперь я могу умереть спокойно!..
Поздно ночью автоматчики вышли из хижины отца Варсонофия. Шумели деревья, по-прежнему лил дождь — без грома и молний. В стороне чернела высокая монастырская стена. Пещеру мигом поглотила сырая темень. Светилось лишь маленькое желтое оконце. Из него, словно из-под земли, доносился невеселый голос:
Молись, кунак, в стране чужо-о-о-ой...
Хлестнула набежавшая дождевая волна, залила песню.
Десантный батальон расположился в японских казармах и вторые сутки контролировал жизнь Мукдена. Солдаты охраняли банки, мосты, аэродром, железнодорожный вокзал, разбросанные по всему городу склады. Отдыхать приходилось урывками, заботы и тревоги лишали их сна.
С нетерпением десантники ждали прихода своих танков.
Вечером в казарме услышали глухой артиллерийский выстрел. За ним второй, третий...
— Приготовиться к отражению атаки! — скомандовал Драгунский и выбежал из казармы.
«Что же это значит? — тревожно подумал он, надевая каску. — Откатываются остатки разбитых японских частей? Или напали бандиты?»
Город насторожился: опустились железные жалюзи на дверях и окнах магазинов, исчезли сновавшие по улицам рикши, люди попрятались в домах и подвалах.
Медленно тянулись минуты ожидания. И вдруг раздался колокольный звон, а потом — глухой гул. Он нарастал, усиливался, и вот уже отчетливо прорезался рев танковых моторов, лязг гусениц, и на улицах разом заклокотало все, что пряталось, таилось.
— Наши танки! — закричал Драгунский. — Я по голосу чую!
Автоматчики побежали к перекрестку. Пестрая толпа китайцев заполнила тротуары, поползла на мостовую.
— Вансуй! Вансуй![31] — неслось от площади.
— Шанго!
Десантники выбежали на площадь и увидели идущие по мостовой тридцатьчетверки. Танки шли с открытыми люками, на броне сидели чумазые десантники, а вокруг — на тротуарах, у края мостовой — гудела разноцветная толпа китайцев с красно-синими флажками, голубыми, розовыми и желтыми шарами, пышными букетами хризантем.
— Шанго! Шанго!
Передний танк остановился. Соскочивший с брони десантник подхватил двух китайчат в соломенных шляпах и посадил их на машину. Подбежавшие к танку китайцы повесили на ствол пушки красное полотнище, испещренное иероглифами. Танк тронулся дальше, китайчата прижались от испуга к башне, но потом осмелели, стали размахивать своими широкополыми шляпами.
Людской поток на тротуарах становился все гуще. Он уже расползался по мостовой, и дорога для танков становилась все у́же и у́же. На броню летели букеты цветов, гирлянды разноцветных флажков свисали со стволов пушек.
На перекрестке тридцатьчетверки повернули к военному городку.
Бухарбай, глядя из-под ладони, силился узнать хоть одного десантника, но на броне сидели все незнакомые.
— Это чье хозяйство? — спросил он.
— Мы жилинцы! — ответили с танка.
Вслед за последней машиной двинулась процессия с чучелом дракона, похожего на огромную ящерицу. Дракон метался над головами, догонял и никак не мог схватить красный шар, привязанный к бамбуковой палке. Размахивая палкой, дракона дразнил стоявший на танке проворный, загорелый до черноты китайчонок. Шар то оказывался у самой пасти дракона, то снова ускользал в сторону.
— Вот потеха!
— Видит око, да зуб неймет, — смеялись автоматчики.
Танки по-одному въезжали во двор, выстраивались в ряд вдоль казарм. Народ толпился на прилегающей к военному городку улице. В неровном свете факелов мелькали сине-красные флажки, приветственно поднятые руки, а над людским муравейником все носился в безуспешной погоне за красным шаром зубастый дракон.
— Хао, хао! Шанго! — гудело над бурлившей толпой.
Державин, приняв рапорт Жилина, сказал:
— Будем считать, что операция завершена. Обогнал-таки Волобоя, безбожник!
— Где же я его обогнал, товарищ генерал, если его десантники еще вчера Мукден захватили, — ответил комбриг.
У военного городка толпа разливалась все шире. Китайцы запрудили всю улицу. Чтобы лучше увидеть танкистов, залезали на заборы, на крыши домов. На фонарных столбах развевались сине-красные флаги.
Среди китайцев — вернувшиеся из наряда автоматчики из воздушного десанта. Теперь их место на постах заняли жилинцы. Наконец-то пришла подмога бутугурским десантникам. Им разрешили отоспаться за все дни. Только как уснешь, если на улицах такой праздник!
Танк комбрига Жилина в плотном кольце.
— Тут не только китайцы, — сказал Русанов, повернувшись к Державину. — Здесь собралась вся Азия.
У борта тридцатьчетверки стоял бирманец в белой одежде и белой чалме, рядом с ним что-то говорили два бородатых индуса. К Ане Беленькой жалась худенькая, хрупкая кореянка Ким Ок Сун. Она пугливо озиралась по сторонам, не выпуская Анину руку из своей. На ней было длинное цветастое кимоно, подпоясанное широким узорчатым поясом. За ней стоял такой же худой и маленький вьетнамец Нгуен До Санг. Все говорили о каком-то поезде, но что это за поезд, Русанов понять не мог.
Пришлось прибегнуть к двойному переводу. Оказывается, у всех была одна беда: японцы вылавливали в городах людей, уклонявшихся от мобилизации в армию и трудовые отряды, и увозили их в Японию на шахты. Только вчера такой поезд беглых — хинан рэсся — прошел через Мукден, и вот люди просили спасти пойманных.
У вьетнамца Нгуен До Санга увезли в том поезде брата, у кореянки — ее жениха Сен Гука.
Выслушав жалобы, Державин сказал Викентию Ивановичу:
— Успокойте их. Тюрьма на колесах дальше Дальнего не пойдет: у японцев теперь другие заботы. Порты вот-вот блокируют наши корабли. Пусть они на пути к Дальнему разыскивают своих братьев и женихов.
К Русанову подошел бродячий певец с острова Ява. На нем был полосатый истертый халат, руками он придерживал висящий на плече ребаб[32]. Певец свободно говорил по-китайски, и Викентий Иванович узнал, что зовут его Сумбадрио. Уже несколько лет бродит он по свету — ищет звезду, под которой родился. Был на Суматре, в Шанхае, Гонконге, Маниле, но нигде ее не нашел. Куда ни приходил — повсюду видел лишь длинные самурайские мечи.
— Теперь можете возвращаться в свою Индонезию, — сказал певцу Русанов. — Там теперь нет самурайских мечей.
Певец обрадовался, что-то пробормотал, забренчал струнами и, закрыв глаза, запел песню про свою родину, омытую теплыми морями, покрытую древними лесами. Песня была всем знакома, бойцы подхватили ее. Над городком зазвенел сильный красивый голос Иволгина:
Тебя лучи ласкают жаркие,
Тебя цветы одели яркие,
И пальмы стройные раскинулись
По берегам твоим...
Кореянку Ок Сун, которая, как узнала Аня, была танцовщицей в кабаре, окружили парни в широкополых шляпах, подхватили на руки, подняли на студебеккер. Ок Сун пошла танцевать и вложила в свой танец все страдания, всю тревогу за потерянного любимого человека — то безуспешно гналась за ним, то в печали склоняла на колени голову, то простирала к небу тонкие руки: звала кого-то на помощь. Иволгин и Аня с восторгом смотрели на нее. Валерий Драгунский преподнес ей букет хризантем.
Сеня Юртайкин смекнул, что начинается самодеятельность, сбегал в казарму и вернулся с балалайкой, в драном японском мундире и трофейной каскетке. Под глазом у него был нарисован большой синяк, на носу еле держались разбитые очки. В таком виде Сеня вскочил в кузов студебеккера, прошелся из угла в угол и важно произнес:
— Прослушайте, друзья, доклад японского генерала Ямады о боях в Маньчжурии. — Он заискивающе улыбнулся и, подыгрывая на балалайке, запел:
Все хорошо, почтеннейший микадо...
Викентий Иванович переводил слова песенки. Китайцы с любопытством смотрели на «японского генерала» с балалайкой. А «генерал» вдруг перекосил от страха лицо, прижал рукой вздувшуюся щеку, дрожащим голосом зачастил:
Они прошли через Хинган,
И мы попали к ним в капкан.
Нас взялись танками давить
И пулеметами косить...
Потом Сенино лицо снова расплылось в заискивающей улыбке, и закончил он как ни в чем не бывало: