— Нет, я не про то. Я про то, как они восхищались.
— Неужели? Что же они говорили? Удивлялись, что чукчи похожи на людей?
— Нет, они уже, кажется, не делают никаких скидок на это. Просто говорили, что мы славные ребята. Профессор даже сказал, что променял бы на нас десяток своих льежских студентов.
— Вот оно как?!
— Да. Что-то в этом роде, если только я правильно понял. У них произношение совсем не такое, как у нашей университетской «француженки»… Послушай, что ты им рассказывал про северный факультет?
— Только то, что я занимаюсь там. А что?
— Он, видишь ли, всё-таки высказал такое предположение… Ну, что на северном будто бы пониженные требования. Понимаешь? «Наверно, — говорит, — там и программа специальная». Облегченная будто бы.
— Ага! А ты что ответил?
— Так ведь это они между собой говорили. Я ведь не докладывал им, что понимаю.
— Да, да, я забыл. Удивительно, как это ты сдержался! Уж ты-то здесь совсем зря пострадал.
Дело в том, что Гэутэгын учился не на северном факультете. Он тогда кончал математический. А спутники наши, видимо, считали, что чукчам до «настоящих» факультетов не дотянуть, что для чукчей и других северян создан специальный северный факультет — полегче, подоступнее якобы.
В тот день мы не говорили на эту тему с нашими соседями, а на следующий день я стал расспрашивать профессора о Льежском университете и кстати рассказал кое-что о Ленинградском. Рассказал, в частности, что на нашем факультете учатся не только представители народов Крайнего Севера, но и другие студенты — все, которые интересуются северной филологией. Упомянул о том, что бывает и обратное: многие северяне учатся на других факультетах, если избирают другую специальность. Вот, например, Гэутэгын учится на математическом…
— О! — профессор посмотрел на Гэутэгына с уважением. — Вы сразу вырастали в моих глазах. Сам я всегда был очень слабый в математике. Это моя… Как это сказать?.. Это моя ахиллесовая пятка… Ты слышишь, Клодин, мсье Гэутэгын, оказывается, математик! А ну-ка, мсье студент, показывайте ваш матрикул. Какие есть ваши успехи?
Это было, конечно, наполовину шуткой, но в то же время это, видимо, было желанием проверить мои слова. Гэутэгын достал зачетную книжку. Профессор Леерлинк стал перелистывать её, восхищенно показывая жене растопыренную пятерню: «Отлично! Отлично! Опять отлично!»
В тот же вечер мы разговорились о Хабаровске. Я вспомнил, что в Хабаровском музее есть несколько работ моего земляка, знаменитого костореза Гэмауге. Жена профессора стала записывать в свой блокнотик имя костореза, чтобы обязательно посмотреть его работы. Но она сбилась, записывая непривычное ей имя по-французски. А Гэутэгын, сидевший с ней рядом, заметил это и стал диктовать по буквам. Он называл каждую букву её французским наименованием. Госпожа Леерлинк записала, а потом тихо спросила:
— Значит, вы знаете французский?
— О нет, — смутился Гэутэгын, — совсем слабо.
— Не надо скромничать, — сказал профессор. — Я видел матрикул. Французский — отлично.
И он снова выразительно растопырил свою пятерню.
Жена его густо покраснела и улыбнулась, прикусив губу, чтобы не рассмеяться. Но она все-таки рассмеялась, и мы сделали то же самое, потому что всем было немного неловко. Профессор присоединился к нам последним — вначале он никак не мог понять, почему мы смеемся. Зато потом он ещё долго повторял: «Ай-ай-ай! Ведь мы говорили при вас так, как будто были только вдвоем!»
* * *
Байкал покорил наших соседей сказочной своей красотой. Да и сами мы, уже не в первый раз проезжавшие по его берегам, не могли оторваться от окон. Отроги гор, прорезанные бесконечными тоннелями, волны, играющие под легким ветром, парусные лодки среди волн, далекие горные хребты… Вода подступала к самой насыпи. На одной из станций молодой офицер, ехавший в соседнем купе, взял у проводницы ведро, сбежал с насыпи и зачерпнул байкальской воды. Её пил весь вагон. То из одного, то из другого купе доносилась старая песня: «Славное море, священный Байкал…» Профессор Леерлинк пил байкальскую воду, пытался подпевать, на станциях покупал у рыбаков-бурят копченых омулей, записывал в свой дневник текст песни о Байкале и, дойдя до слов о ветре «баргузине», спрашивал: «Кто такой Баргузин?» А жена его смотрела в окно и вздыхала: «Сюда бы на все лето приехать с мольбертом!»
Теперь Хабаровск был уже недалеко, наше совместное путешествие подходило к концу. Профессор предложил нам попозировать его жене — им хотелось бы иметь на память хотя бы карандашные портреты. Отказываться не было никаких оснований, а с другой стороны, немного коробила мысль о том, что попадешь в коллекцию диковинок. «Олени, знаете, моржи, чукчи». Гэутэгын сказал:
— Пожалуйста. Но только при одном условии. Если вы, в свою очередь, разрешите сфотографировать вас. На память.
Он достал из чемодана свой «ФЭД» и на станции со странным названием «Ерофей Павлович» сфотографировал их в пристанционном скверике.
Потом мы позировали госпоже Леерлинк. Минут на тридцать каждый из нас должен был превратиться в истукана. Пока я позировал, Гэутэгын изображал в лицах, как госпожа Леерлинк будет показывать наши портреты своим льежским знакомым, как она будет сопровождать это рассказами о прогулках на оленях, об охоте на белых медведей…
— Но все наши друзья, — смеялась она, — все они знают, что мы не собирался ехать за Полярный круг! Самая северная точка на весь наш маршрут есть Ленинград!
— Это неважно. Вы могли передумать. Вас могли уговорить двое молодых чукчей, с которыми вы познакомились в поезде Москва — Хабаровск. А потом, — совершенно серьезно добавил Гэутэгын, — один из этих чукчей подарил вам на память комнатную нерпу.
— Гости будут требовать! Где же тот нерпа?
— Скажите, что на обратном пути она затосковала по Северу, заболела и умерла. Пришлось сделать из нее меховую жилетку. А жилетку из нерпичьего меха вы можете приобрести в Хабаровске и показывать её своим гостям. Только не забудьте спороть фабричную марку.
Гэутэгын, видимо, совсем уже привык к нашим соседям, он балагурил так, как будто был в студенческом общежитии, среди своих ребят. Он смешил нас, но, если я начинал смеяться, госпожа Леерлинк заявляла, что так позировать нельзя — у неё ничего не получится. Однако портреты получились, и довольно похожие, по-моему.
* * *
В последний день, уже перед самым Хабаровском, профессор и Гэутэгын не удержались и снова заспорили. На этот раз они не сошлись во взглядах на групповой брак. Профессор утверждал, что исчезновение этого обычая, существовавшего на Чукотке вплоть до её советизации, может носить только административный, только формальный характер.
— Перемены не происходят так быстро, — говорил он. — Особенно в такой области, как эта. Надо пройти много поколений. Дети… Как это говорят?.. Дети падают недалеко от своей яблони. Надо, чтобы переменилось само понятие про любовь. Это не бывает в такой срок. Я не могу верить. Можно запретить групповой брак, нельзя научить чувствовать.
Гэутэгын терпеливо заверял профессора, что чукчи и прежде «умели чувствовать», что на Чукотке понятие о любви примерно такое же, как и в других местах. Он доказывал, что групповой брак отмер просто потому, что изменился весь общественный строй, а формы брака, как известно, тесно связаны со всей жизнью общества… Словом, он знакомил профессора с довольно простыми истинами, а тот всё твердил:
— Нет, нет. Такие вещи не меняются за один раз. Не так скоро.
— Но кому же из нас это лучше известно, мсье профессор? Вам, который никогда не бывал севернее Ленинграда? Или всё-таки нам, которые выросли на Чукотке и знают, что этот обычай исчез вместе со множеством других пережитков родового строя? Вы говорите, что это произошло слишком быстро? Ещё бы! Уж такая счастливая судьба выпала нашему народу. Ведь в том-то здесь и дело, что мы шагнули к социализму прямо от первобытности, из темноты самой дикой жизни. Шагнули, минуя целые формации, в том числе и ту, в которой всё ещё пребываете вы, мсье профессор!
Не знаю, чем кончился бы этот спор, если бы не вмешалась госпожа Леерлинк. Она заявила, что ничего не понимает в таких вещах, как общественные формации, но поскольку речь шла о любви, она готова взять на себя роль судьи «Только женщины, — сказала она, — знают, что такое любовь».
Она сказала, что обычай группового брака несовместим с настоящим чувством. Мы полностью согласились с ней. Тогда она заявила, что этот обычай существовал на Чукотке потому, что у северян чувства вообще не такие горячие, как у южан.
— Не надо сердиться на меня, — сказала она, мило улыбаясь, — не надо обижаться на меня. Человек, который живет чересчур далеко… Холодно, кругом лед… человек там не может любить так пылко. Для этого надо другое сердце.

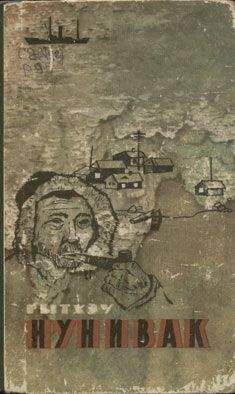
![Юрий Рытхэу - Люди нашего берега [Рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/149502/149502.jpg)

