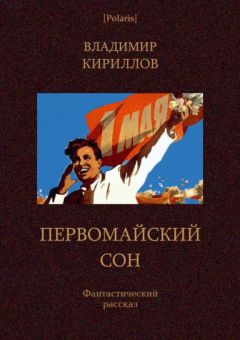Равнодушие было во всем, что говорил и делал Петриченко. Он не мог и не хотел его скрывать. И вправду, он был ко всему равнодушен. Еще недавно он любил свои обязанности, считал их по-настоящему нужными и исполненными важного значения. Ему казалось, что телефонные звонки, вызовы подчиненных к генералу, записывание распоряжений, напоминание о разных делах, подготовка различных бумаг и другие поручения генерала заполняют его жизнь и делают ее интересной и содержательной. Но после того, как Петриченко стал невольным свидетелем разговора Савичева с женой на завалинке под окном приемной, после того, как Володя уехал по назначению в свою часть, все, что ранее казалось Петриченко интересным и важным в его адъютантских обязанностях, вдруг сделалось для него неинтересным и лишенным всякого разумного содержания. Петриченко продолжал звонить по телефону, вызывать людей, нужных Савичеву, докладывать и записывать, но все, что раньше он делал с увлечением и любовью, выполнялось теперь с равнодушием и отвращением, настолько откровенным, что это не могло не броситься в глаза Варваре Княжич. Варвара даже пожалела Петриченко, правда особой жалостью, в которой был оттенок превосходства. Она не могла, вернувшись с плацдарма капитана Жука, не чувствовать своего превосходства перед Петриченко. Сидя в тихой генеральской приемной, он не мог знать того, что знала она, и поэтому был, с ее точки зрения, достоин жалости,
— Я выполнила задание генерала, — сказала Варвара.
— А, вы насчет этого танка, — равнодушным голосом сказал серый Петриченко, наконец поняв, о чем говорит Варвара, и, по-видимому, только теперь по-настоящему узнав ее. — Сфотографировали? Долгонько же вам пришлось!
Варвару задело, что капитан Петриченко забыл о том, что ей было поручено сфотографировать танк.
— Там обстановка была неблагоприятная, — пробормотала она, все еще не выпуская из рук завернутых в газету фотографий.
— Ну ясно! — Петриченко половинкой бритвенного лезвия, вставленного в специальный зажим, раскрывавшийся, как перочинный ножик, тщательно оттачивал в это время красный карандаш. — А когда она бывает благоприятной? Вы оставьте снимки, я передам генералу.
Конечно, она не рассчитывала, что ее встретят с полковым оркестром и генерал Савичев объявит ей благодарность — за что ж тут благодарить, раз она так недопустимо опоздала, но все-таки капитан мог бы не иронизировать: что он знает про обстановку на передовой, сидя тут и оттачивая карандаши для генерала?
— Ну что ж, — вздохнула Варвара. — Возьмите, вот они…
Петриченко кончил чинить карандаш, взял из рук Варвары сверток со снимками и положил его перед собой на столе.
— Плохо делают у нас карандаши, — сказал он неожиданно. — Уже до половины стесал его, а он все крошится… Танки умеем, самолеты умеем, а карандаши не умеем!
Петриченко посмотрел на Варвару и, видно, прочел на ее лице все, что она думала сейчас о нем, потому что вдруг покраснел и начал торопливо развертывать газету.
— Посмотрим, что вы там нафотографировали, посмотрим!
Петриченко старался говорить нарочито бодрым голосом и выказывать интерес к снимкам, но Варвара понимала, что и интерес и бодрый голос у него деланные, что ему не нужны ни она, ни ее снимки. Он все время поглядывал на дверь комнаты генерала и, когда заметил, что Варвара обратила на это внимание, сказал:
— Генералам тоже нужен отдых, как по-вашему?
Петриченко небрежно разложил перед собою снимки. Деланное любопытство сменилось на его лице таким же деланным разочарованием. Снимки как снимки. Каждый, кто хоть немного умеет фотографировать, привез бы такие, пускай она не притворяется, что это так тяжело и сложно. Но постепенно деланное любопытство исчезало с лица Петриченко, оно становилось простым и искренним, таким, каким Варвара видела его перед поездкой на плацдарм. Он взял один снимок за уголок и начал внимательно разглядывать, отклонив от света, чтобы не блестела глянцевая поверхность бумаги. Варвара следила за Петриченко и не могла понять, что так заинтересовало капитана. Что он там увидел? По правде говоря, не очень удачный снимок, глубины нет, все смазано, только танк удалось поймать в фокус, но ведь ей и нужен был танк, ни о чем другом она не думала.
— Слушайте! — вдруг закричал Петриченко, не отрываясь от снимка. — И все это вы… вы сами?
— Да уж сама, — улыбнулась Варвара. — А что?
— И этот снимок тоже? — продолжал волноваться Петриченко.
— А что вы там увидели?
Варвара протянула руку, теперь они держали снимок вдвоем. Глаза Петриченко блестели, он тыкал мизинцем свободной руки в снимок и, уже не сдерживая голоса, забывая о том, что за дверью в комнате отдыхает его генерал, повторял:
— И это? И это тоже вы?
— Да уберите вы свой палец! — раздраженно выдернула у него снимок Варвара. — Я же ничего не вижу.
— А тогда вы видели?
В глубине снимка, справа от «тигра», за сплетением неотчетливых, будто размытых линий, которые в натуре были, наверное, стеблями какой-то кустистой травы, Варвара увидела то, на что не обратила внимания, печатая снимок, и не видела во время фотографирования. Размазанный, едва заметный на снимке немецкий солдат подползал к танку, вытянув вперед руку с автоматом. Варвара охнула от страшной догадки. Неудивительно, что она не заметила немца. Ей было не до того, ее интересовал только танк. Она сразу поняла: если объектив увидел автоматчика, значит, и автоматчик видел ее… Почему же он не стрелял? Хотел взять живьем? Не успел?
«Мы вас будем прикрывать в случае чего», — услышала Варвара хрипловатый голос Шрайбмана и закрыла глаза, чтоб не видеть размазанного немца на снимке. Шрайбман не дал ему доползти до нее, Шрайбман вылез из своего окопа, чтобы предупредить его выстрел своим выстрелом, — теперь над Шрайбманом уже холмик земли…
— Испугались? — услышала она удивленный голос Петриченко. — Тогда не боялись, а теперь испугались?
Варвара открыла глаза и горько улыбнулась. Петриченко осторожно взял снимок у нее из рук. Выражение искреннего восторга сменилось на его лице озабоченностью, он выглядел совсем растерянным и даже перепуганным. Что могло его испугать? Чего ему было пугаться? Ведь все уже сделано, фотокорреспондент Варвара Княжич стоит перед ним в приемной генерала Савичева, а не ползает на плацдарме, охотясь на «тигра», немецкий автоматчик не убил ее, все в порядке… Нет, видно, не все было в порядке, если Петриченко так испугался простодушного героизма, опасности и риска, которые стояли за снимками Варвары Княжич.
Дверь из комнаты Савичева резко распахнулась.
— Что случилось? Что вы так раскричались, Петриченко?
Савичев вышел расстегнутый, смятая чистая сорочка белела под кителем, лицо его казалось усталым и грустным.
— А, это вы! — Савичев увидел Варвару и быстрыми движениями длинных, тонких пальцев начал застегивать китель. — Извините, вид у меня…
Он заметил снимок в руках Варвары, бросил взгляд на стол, и в глазах его появилось то же выражение растерянности и смущения, которое Варвара заметила раньше у Петриченко.
— Идемте ко мне, — сказал генерал и пропустил Варвару в дверь.
Петриченко быстро собрал снимки в одну стопку, выровнял ее, постучав о стол, как колодою карт, и подал Савичеву.
— Что ж теперь будет, товарищ генерал? — прошептал Петриченко, со страхом скашивая глаза на дверь, за которой исчезла Варвара.
Савичев не ответил, взял снимки и прошел в свою комнату. Петриченко перегнал генерала поспешно, но со всей почтительностью, на какую только способен хорошо натренированный адъютант, и Варвариной газетой прикрыл что-то на его столе.
— Хорошо, Петриченко, — поморщился Савичев. — Можете быть свободны.
Петриченко на цыпочках вышел, неслышно прикрыв за собой дверь.
В комнате у Савичева, как всегда, было полутемно. Варвара остановилась перед уже знакомым ей столом. Стул стоял рядом, она не решилась сесть: генерал не приглашал ее. Он подошел к окну и откинул ряднинку, зацепив ее краем за вбитый в стенку гвоздик. Стало светлей. Варвара заметила теперь в комнате ширму и за ширмой большую деревянную кровать. На ширме висел, спускаясь концами в комнату, газовый шарфик светло-синего цвета, из-под ширмы виднелись женские туфли.
У Варвары стало совсем скверно на душе от мысли, что там, за ширмой, кто-то есть, какая-то женщина, может полевая жена генерала, и что эта женщина будет слушать, как генерал отчитывает ее за опоздание, а она ничего не сможет сказать в свое оправдание. Варвара не смогла преодолеть враждебное чувство, которое шевельнулось в ней и к неизвестной женщине за ширмой, и к самому Савичеву.
«Ему все можно, — подумала она, — на то он генерал в золотых погонах… И держать меня на ногах тоже можно! Я ведь не в туфлях и не в синем шарфике…»