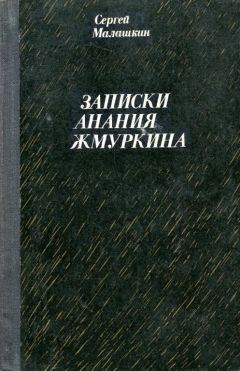— Вы философ? — спросила Пирожкова, и глаза ее опять сузились.
— Я? Не знаю, сударыня. Я оттуда, с Красивой Мечи, — ответил я немножко загадочным голосом и, держа ее тонкую и вялую, как сонная змея, руку в своей, хотел было еще раз поцеловать, но она, придя в себя от удивления, что «мужичок» говорит по-французски, потянула ее к себе и спрятала за спину.
— Садитесь, — предложила Зинаида Николаевна и села на свое место.
Я направился, провожаемый ироническими и удивленными взглядами гостей, к Игнату Денисовичу, — возле него как раз был свободный стул. Но на пути перехватил меня какой-то рыхлый старик, с черными заплывшими глазками, в толстовке, с крупной зеленоватой лысиной.
— Лю-ли, садитесь вот сюда, — предложил он и усадил меня рядом с собой.
Я сел. Старик очень был похож на апостола Павла, которого я видел на иконах. На его висках и затылке вились густые темно-серые пряди волос. На плечах бархатной, стального цвета толстовки, как ржавые отруби, белела перхоть. Разглядывая меня, он прогудел:
— А вы нравитесь мне, лю-ли.
— И вы, — отозвался я бойко.
Мой ответ смутил его. Он запнулся и пристальнее взглянул мне в лицо. Мы сидели в креслах, в уголке. Вечер еще не начался: хозяйка и гости ждали запоздавших, которые должны выступать с чтением своих стихов. Гости тихо разговаривали между собой о поэзии. Два юных студента говорили о стихах Иннокентия Анненского и договаривались идти в ночной трактир за темами. В камине трещали дрова, розовея. От него исходило тепло и грело мне ноги. Старику я так понравился, что он рассказал много о себе. Из его рассказа я узнал, что он учился на архиерея, но не доучился: выгнали из духовной Академии за толстовство. Потом он разочаровался в философии Льва Толстого и стал искать правду божию у всевозможных сектантов. Проболтался на их дорогах больше десяти лет и, не найдя живого бога, плюнул на сектантов и отправился бродяжить простым нищим по матушке России. На такое нищенство убил более восьми лет и пользы не «вы́ходил» никакой: бога, лю-ли, не встретил и в простом сермяжном народе.
— И вот теперь, — прогудел он, — хожу в скептиках, подвергаю, лю-ли, сомнению все и всех.
— До атеизма еще не дозрели? — спросил я чуть насмешливо.
— Нет, — ответил серьезно он. — Зачем же доходить до такой пагубной крайности. Я и вам не советую. До скептицизма допер… Скептицизм — это признавай, отрицай и сомневайся, то есть не отрицай окончательно, не признавай твердо и сомневайся в меру. Скептицизм, лю-ли, возбудитель мозга. Атеизм — его омертвение, распад и разложение. Атеисты неспособны видеть дальше своей могилы и червей, которые будут есть их паскудное тело. А скептики хотя и подвергают все сомнению, но все же, лю-ли, видят далеко… Нет-нет, атеистом я никогда не буду. Вот когда, лю-ли, умру, тогда пусть мой прах становится нигилистом. Ха-ха, — чуть слышно хохотнул старик и, сузив глаза, тут же пояснил: — Тело — прах, но его дух бессмертен. Значит, я не умру. Я вечно, лю-ли, буду существовать, чувствовать и видеть.
— На том свете вы, позвольте спросить, не будете скептиком? — спросил я.
Старик не ответил на мой вопрос. Я немножко смутился, так как подумал, что я бестактно задал ему вопрос. Он развивал свою мысль:
— А что нигилизм? Ницше ответил: «То, что высшие ценности теряют свою ценность. Нет цели. Нет ответа на вопрос». — Старик добродушно улыбнулся, наклонил голову и, вздохнув, задумался.
— Ницше не авторитет для меня, — сказал я. — Я больше сторонник философии Омара Хайяма.
— И Омар Хайям и Ницше — циники… не верят в загробную жизнь, — прогудел старик и поднял голову.
— Омар Хайям верил в веселье и радость на земле… Он не проповедовал в своих песнях идеи звериного царства на земле, как Ницше, — возразил я. — Ницше понял, что христианство отживает — умирает, народы, ждавшие от него счастья, разуверились, впали в отчаяние, а потом стали сомневаться в вечной жизни за гробом и стали приглядываться к земле, то есть стали более практично смотреть на землю, задумываться: нельзя ли на ней, плюнув на рай, построить царство радости и счастья? Вся философия Омара Хайяма в его двух строчках заключается. Вот они:
Жизнь расточай. За нею полный мрак,
Где ни вина, ни женщин, ни гуляк.
В этих словах, как видите, много иронии. Поэт говорит: живите и веселитесь на своей звезде. И звериного, как у Ницше, в философии Омара Хайяма ничего нет. Ницше и другие философы всполошились и решили придумать вместо христианства что-нибудь новое, чтобы это новое удержало на тысячи лет народы от их правдивого взгляда на жизнь на земле. Чтобы построить счастливое государство, которое бы всем дало счастье, народы должны разрушить старый мир — неравенство, собственность, а философов таких, как Тихон Задонский и его последователь Ницше, посадить в темницы, чтобы не лгали, не создавали касты преступников-пастырей и господ-сверхчеловеков.
— Лю-ли, вы страшный и опасный человечище, — хохотнул старик и, подумав, пояснил: — Ваш нигилизм не похож на нигилизм пессимистов. Ваш нигилизм — неистовая тяга к жизни. Что ж, берите камни и побивайте нас… а затем — стройте… А все же, когда стукнет, лю-ли, шесть десятков лет, трудновато отказаться от загробной жизни.
— И строить в эти годы?
— И зачем вы, лю-ли, свалили в одну кучу и Тихона Задонского и Ницше? Один — нигилист отчаянный. Другой — зовет к богу, в царствие небесное.
— Только потому, что один хочет подчинить народ в рабство пастырей, а другой — господ-сверхчеловеков. Это почти одно и то же. Как говорят, хрен не слаще редьки! — проговорил я.
— А знаете что, — улыбнулся старик и коснулся моей руки, — как закончите врачевание своих ран, так приходите ко мне. У меня квартира, а я один… вот мы, лю-ли, и заживем.
— Возьмите к себе Прокопочкина, — предложил я неожиданно для себя.
— А он кто такой? — насторожился старик, оживляясь. — Философ?
— Нет, — ответил я, — он просто интересная личность. У него два выражения на лице, будто оно составлено из двух разнородных частей. Вы удивлены? Не вру. Он таким с позиции вернулся в лазарет. Одна половина его лица смеется, а другая в это же время, верхняя, плачет. И вы видите в одно время на его лице смех и слезы.
Старик резко отстранился от меня, его глаза расширились. В них появился страх какой-то и отразилось недоверие ко мне.
— Как вас найти, господин? — спросил я спокойно.
— Моя фамилия Успенский, — сказал он, все еще дико и со страхом глядя на меня, — а квартирую я на Звенигородской. — И он назвал номер дома и квартиры. — Вы говорите, лю-ли, у Прокопочкина… Я не встречал людей с такими лицами. Что ж, милости просим… заходите. А вот, лю-ли, и богоискатели вошли, — и он показал взглядом на вошедших, шепнул: — Философов, Батюшков и Бердяев. Взгляните на их помятые и постные апостольские рожи. Жулики, доложу вам, — сказал он шепотом, — первостепенные; хотя, лю-ли, они и друзья мои. Когда станете четвертовать этих мошенников, я приду помогать вам… Лю-ли.
Богоискатели подошли к столу и сели. Время текло незаметно, быстро. Успенский понравился мне: было в нем что-то интригующе-грубое и приятное. Его лицо помято, и его толстовка засалена на груди; видно, что и он, как три богоискателя, вошедшие только что в зал, прополз на брюхе не одно философское логово, а много-много за свою жизнь. «Надо побывать у него», — решил я. Зинаида Николаевна поднесла к голубым шарам лорнет и посмотрела на гостей. Сквозь ее голубые рукава, пышные, просвечивали тонкие руки.
— Кого мы ждем, господа, они скоро придут, а сейчас, чтобы не терять времени, предоставим слово поэту Мусаилову.
Поднялся невысокий, в черном поношенном сюртуке человек, поклонился хозяйке, прошел к концу зала, обернулся лицом к гостям и начал сиповатым голосом завывать. Он выл, а на его невероятно плоском лице цвели сивые глаза и розовый носик. Казалось, что носик и глаза были не его, а чужие: их кто-то прилепил к его плоской, невыразительной физиономии, вот-вот поднимутся и, как бабочки, улетят. Он выл о море, о днях сверкающих жар-птицами, о крыльях души, опаленной войной, о женщинах с глазами медуз, которым никогда не надо верить — обманут, и о пророке, идущем путями, ему неведомыми. Мусаилов кончил читать стихи и скользнул на свое место. Слушатели аплодисментами проводили его. Из коридора вошли запоздавшие гости. Среди них был и тот, кого весьма ждали, кто должен выступать со стихами. Все чрезвычайно оживились. Хозяйка встала, подняла лорнет к глазам. Ее голубые пузырчатые рукава ярче вспыхнули и засияли дымкой эфира. Офицер с георгиевским крестом на крутой груди улыбнулся толстыми губами Зинаиде Николаевне; не сгибая гордой головы, он взял ее протянутую руку, похожую на заснувшую змею, и поцеловал.
— Ходит в громкой славе, — шепнул Успенский и, положив пухлую ладонь на мою, пояснил еще тише: — Но его слава не лучше моей толстовки. Моя толстовка засалена соусами… а его слава — похвалами. Но все же, лю-ли, — прибавил он, нажимая ладонью на мою, — пишет острые стихи, до того острые, что хочется слушать и читать их. Слушай. Добрейшая хозяйка предоставила ему слово. Правда, что она, лю-ли, похожа на голубую козюлю?