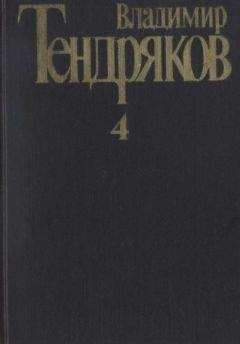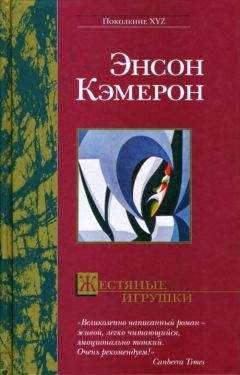1972
Апостольская командировка
Странная болезнь, не признаваемая медиками. Наверное, многие носят ее в себе и не подозревают об этом. У большинства она проходит как легкое недомогание, но порой она жестоко калечит, плодя по свету духовных инвалидов и самоубийц. Время излечивает от этой болезни, но не всегда…
Майским утром, когда на московских скверах радостно горела новорожденная листва, асфальт дышал свежей испариной, башня с часами на крыше Казанского вокзала купалась в голубой прохладе обмытого неба, я, протолкавшись целый час в душной, потной, накаленной недоброжелательством очереди, купил билет.
— Куда?..
В билете значилось — Новоназываевка.
О том, что существует на свете такая станция, я узнал уже в очереди, минут за пятнадцать до того, как протянул деньги в окошечко кассы.
За моей спиной шла назойливая, скучная беседа незнакомых мне людей, в ней мелькнуло звонкое слово «Новоназываевка», и я украл его.
— До Новоназываевки, пожалуйста.
Куда еду? Я не знал.
Зачем? Тоже представлял смутно.
Вчера я уволился с работы. По собственному желанию. Заявление, как и положено, подал за две недели. Еще раньше подготовил всех: извините, вынужден.
И прежде я частенько уезжал в командировки. Жена еще долго останется в покойном неведении, не знает, что командировка не кончится, муж сбежал… Так лучше для нее… Так лучше для дочери. Не могу быть ни мужем, ни отцом. Нет теперь у меня ни родных, ни друзей.
Я никого не убил, ничего не украл, не растратил казенных денег. Я не совершил преступления, но бегу, хочу скрыться.
Билет до Новоназываевки. Билет в неизвестность — в никуда. Билет к господу богу, если угодно.
Майское солнце стояло над городом. Не праздник, но люди на улицах одеты чуть-чуть нарядней обычного, чуть-чуть больше смеха, каждый встречный кажется сегодня чуть-чуть моложе. Весна… Видимость возрождения. Один из самых ловких обманов природы, убаюкивающий бдительность человека.
Спешащие прохожие вдруг начали весело оглядываться: по мостовой шел парень, скуластое, юношеское, тощенькое лицо наполовину скрывает борода, не стрижен и не чесан, на воротнике рубахи лежат неопрятные космы. В майский день — овчинная душегрейка, вывернутая мехом наружу, острый мальчишеский зад обтягивают вытертые до лоска джинсы, из-под них — грязные, голодно выглядывающие лодыжки. К одной из лодыжек привязана веревкой пустая консервная банка — дребезжаще погромыхивает на каждом шагу. Скучноватое презрение во вздернутых плечах, тепло укрытых свалявшимся мехом, презрение и независимость под бородой, и что ни шаг, то кухонный звон, словно обронили кастрюлю.
— Что за чучело?
— Битник. И у нас завелись.
— Ну и мода, мать честна!
— Тунеядец перед всеми фасон давит, а милиции чихать.
— Эй, борода, присматривай! Как бы на погремушку не наступили!
А ведь это мой родственник. Жить просто так — нет, не неволь. И консервная банка гремит по асфальту…
Пока только консервная банка. Он еще не дозрел.
Может, никогда и не дозреет. Равнодушное время лучше всего лечит молодых. А я уж не очень молод.
Да, сознаю, что я странно болен, тяжко, почти смертельно.
Я горжусь своей болезнью, мне жаль здоровых людей, не ведающих о моем недуге.
Позвякивала где-то в беспокойной людской чаще удаляющаяся консервная банка. Догнать бы, сказать: я знаю кое-что, по крайней мере это лучше пустой консервки.
Не поверит.
В таких случаях на слово не верят.
Нужно дозреть.
Билет до Новоназываевки…
* * *
Когда и с чего у меня началось?
Пожалуй, с получения квартиры.
Мы с Ингой вошли впервые в свою квартиру, пустынно-светлую, пахнущую тем бравурно-праздничным запахом, который присущ всему новому, будь то новая детская игрушка, новые ботинки, новое пальто.
Мы перешагнули за порог, и я, пораженный, показал Инге на распахнутую дверь, ведущую из узкого коридора в комнату:
— Гляди! Интерьер!
За дверью вглубь уходила стена, плинтус пола вонзался в пространство. А мы привыкли к тесным комнатушкам, где стена упиралась глухо в другую стену, где почти не было глубины, и чужеземный термин «интерьер» для нас звучал такой же абстракцией, как постоянная Планка. А здесь перед глазами — мой интерьер, наш интерьер, наше собственное пространство, никто уже не посягнет на него, не прикажет: «Выезжайте!» Мы имеем охраняемое законом свое место на земле.
До этого мы с Ингой снимали комнатушки, чуть ли не каждый год новую, переезжали с чемоданами и раскладушкой из одного конца Москвы в другой. Мы ютились у вдовы с тремя детьми за фанерной перегородкой в тесном, как школьный пенал, углу. Мы пребывали в комнате бывшей опереточной актрисы, которая сама постоянно жила на даче у зятя. Нас со всех сторон окружали шкафчики и секретеры с намертво запертыми ящичками, фарфоровые пастухи и пастушки, слоники «на счастье», фотографии опереточной примадонны в расцвете творческих сил, в соблазнительных позах. Мы были скованы грозными запретами: на этот диван не ложиться, на этом столе не обедать, на этом старинном кресле, боже упаси, не сидеть, живи где-то между, дыши с осторожностью. За такую возможность существовать мы обязаны были платить треть заработанных вдвоем денег.
В конце концов нам удалось отыскать изолированную комнату в шесть квадратных метров. Общий длинный темный коридор, двери, двери по обеим сторонам, ведущие в такие же, как наша, клетушки. Уборная, похожая на вокзальную, этажом ниже, а общая кухня напоминала доисторическую племенную пещеру. В ней с непривычки можно легко заблудиться среди густо навешанных простыней и кальсон. Мы с Ингой год наслаждались покоем — наши покладистые хозяева обитали в соседнем доме по этой же улице, регулярно брали плату, ничем больше не интересовались, запретами не связывали. На откупленных шести квадратных метрах мы могли делать все, что хотели, — читать, писать, приглашать гостей, спорить…
Именно в то время у Инги появилась гитара, именно в то время по Москве впервые зазвучал голос Булата Окуджавы. Он не пел с эстрады, и афиши с его именем не развешивались по заборам, он пел в кругу близких друзей, и песни его выходили на улицу, добирались через длинный и темный коридор до нашей тесной комнатушки. Перекинув ногу на ногу, подняв плечо, недоуменно подняв одну бровь, с горячим румянцем на лице (только что стояла у плиты, жарила гостям яичницу) Инга «баритонствовала» под Окуджаву.
По Смоленской дороге — леса, леса, леса.
По Смоленской дороге — столбы, столбы, столбы.
Над Смоленской дорогою, как твои глаза, —
Две вечерних звезды — голубых моих судьбы…
У Инги глаза серые в голубизну — две вечерних моих звезды. Я любовался ею.
Но через год у нас родилась дочь. И ни читать, ни писать, ни встречаться с гостями — пеленки, ночные горшки, ванночки для купания, детский крик, бессонные ночи. И гитара забыто висит на стене, и где-то поет Окуджава новые песни, но они уже не пробиваются к нам. Все книги втиснуты под стол — мешают. Постоянно мешаю и я, мне нет угла, куда бы я мог забиться. Инга в неряшливом халате, с осунувшимся деревянным лицом, с воспаленными, раздраженно блестящими глазами — «две вечерних звезды — голубых моих судьбы…».
Тогда я почувствовал, какое наказание — люди. Дома для меня не было места, по дороге на работу я должен втискиваться в битком набитый троллейбус, на работе постоянная суета, голоса, голоса, голоса, требующие, спрашивающие, просто нарушающие мое одиночество. Я изредка оставался по вечерам на работе, мог сидеть за столом, ничего не делая, не шевелясь, впитывая целебную тишину. Но это были минуты предательства, дома билась с ребенком Инга… Мне нет места дома, но я необходим там, без меня Инга не может даже выскочить на нижний этаж в уборную, дочь ни на минуту нельзя оставить.
И вот дочь выросла из пеленок, встала на ноги, сделала первые шаги. Нашлась старушка, согласившаяся за ней присматривать. Инга снова пошла на работу. И у меня удачи, меня выдвинули заведующим отделом в журнале, который читают во всех уголках страны. Я еще не член редакционной коллегии, но к моему слову прислушиваются. И наконец-то случилось долгожданное, вымечтанное — нам дают квартиру в новом доме. Две комнаты, обильно заполненные воздухом и светом, третья комната — кухня, только наша кухня, с нашей плитой, никто из чужих не появится здесь, не развесит пеленок.
В первую же ночь, когда Инга с Танюшкой уснули в соседней комнате, я не выдержал, тихонько встал, пробрался в ванную, включил свет. Ванная комната была самой завершенной, уже полностью «меблированной». Она сверкала стенами, облицованными кафельной плиткой, никелем кранов и певучим глянцем самой ванны. На ванну нельзя было досыта насмотреться, взгляд мог скользить и скользить без конца, отдыхая на ровной белизне, покорно следуя текучим изгибам. Без единого острого угла, ласковая, успокаивающая — одухотворенный сосуд. В доме шли еще какие-то доделки, еще не успели подать горячую воду. Я забрался в холодную ванну, сел и просто представил себе эту горячую воду, с морским зеленоватым отливом, заливающую меня…