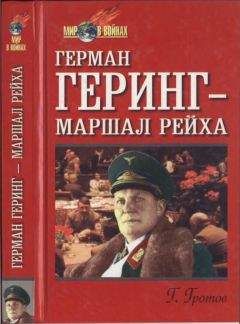— С башней водонапорной!
— С башней… Рекультивацию начну с первого января восьмидесятого года…
— Слушай, раньше бы, а? Ну век за тебя…
— Не торгуйся. С первого квартала восьмидесятого, и ни на один день раньше. Договорились?
Насонов мучился. Чуял, что он проигрывает что-то, опять проигрывает, но как ухватить за хвост тайную мысль Дорошина, чтоб повернуть все по-своему, на пользу колхозу? Интуитивно понимал он, что для Дорошина важнее всего согласованная формулировка по срокам рекультивации, и упирался именно здесь изо всех сил.
Что бы он только не отдал за то, чтобы знать мысли и планы Дорошина. Да вот поди же… Такие уступки делает. Видно, серьезно что-то для него решается? Где бы узнать? Кого поспрашать? Ах ты ж, беда какая! Коли на водопровод как на мелочь идет Дорошин, то выгоду в еще более крупном деле для себя ищет. В госте московском вся закавыка. Уехать бы сейчас… А может, и вправду для определения денежных дел нужна эта бумага Дорошину? А не дадут ему ассигнований — и плакал водопровод для колхоза… Как бы не прогадать?
Мужицким цепким умом пытался Насонов понять ход самый лучший, да только не клеилось ничего. Вот бы с Рокотовым посоветоваться… Уж тот знает небось для чего Павлу Никифоровичу подпись насоновская понадобилась. И эта мысль, пришедшая совершенно случайно, показалась Насонову самой умной и блестящей, А чтоб не огорчать Дорошина, сказал:
Я зараз смотаюсь к своему экономисту и сразу от него к тебе… Надо посоветоваться, Павел Никифорович… Считай меня хоть трусом, хоть кем, а не могу я таких на себя обязательств брать. Вот и весь мой сказ.
Дорошин покачал головой:
— Ну и черт с тобой, Иван… Не один год ты меня знаешь. Говорил тебе: пользуйся добротой моей… Не хочешь, хитрить надумал? Дело твое. Только я уже ничего тебе строить не буду. И землю рекультивировать тоже… Будь здоров…
— Это как же так? — Насонов подступал к нему обиженный до глубины души. — Ты что ж так, Павел Никифорович? Будто купец какой… Сейчас хочу, а потом расхотел?.. Я у тебя не дачу для себя прошу… Для колхоза дело доброе. Обещал сколько лет.
— Не будет тебе ничего, Иван Иваныч… Сказал же, — ровным голосом проговорил Дорошин и пошел в дом. Остановился у двери, оглянулся. — Не понял ты меня, Ваня… Я хотел деньги выколотить из Москвы… Кое-какие планы у меня есть. И тебе б за подпись твою водопровод вышел. Жадность твоя тебя подвела.
А теперь я раздумал с тобой связываться. А к тебе обратился потому, что шефы мы твои… Затраты на твой колхоз нам в строку не поставят. Не понял ты меня.
Расстались недовольными друг другом. Особенно Насонов. Включив мотор машины, подумал:
— А к Рокотову заеду. Шутишь, Павел Никифорович.
Вездеход ныряет в выбоины раз за разом. Чертова машина. Как нырок — сразу горизонт к небу взлетает. Катюша тихо охает, прижимая к груди сумку, в которой праздничное платье и туфли. Иногда она испуганным взглядом глядит на него, как на человека, сделавшего что-то сверхъестественное, и ему понятно значение этого взгляда. Только не страшно Эдьке, а даже как-то приятно на душе. И будто с Коленьковым разговор продолжает вести, словно даже говорит ему: «Ну вот и сделал я как хотел… Что теперь будет, меня совсем даже не интересует. Можете даже выгонять».
Вот уже с полчаса тянутся с двух сторон чахлые деревца. Болота. Просеку прошли быстро и через речку проскочили, считай, за пять минут. Даже удивился Эдька своей удачливости. Теперь ждет не дождется, когда слабая колея выведет его к селу. А дорога все разматывает и разматывает совсем уже бесконечные километры. Сколько их? Вроде рядом все было.
Вечерело прямо на глазах. Удлинились зубцы деревьев по ту сторону обоих болот. Небо над ними из серого стало чуть синеватым, будто кто-то зажег множество чадных костров и дым от них стал расползаться до самых дальних облаков.
Почти не разговаривали. Катюше хотелось иногда сказать что-то, но у Эдьки было лицо такое суровое и непроницаемое, что она робела. Иногда только охала, когда вездеход проваливался в очередную выбоину.
А Эдька испугался. Если придется ночью плутать в поисках дороги — это плохо. Обратно — это еще туда-сюда. По пути запоминал кой-какие ориентиры. А вот если посветлу не доедут? Радость и гордость за свой поступок, мысли, что и он не хуже таежных ветеранов, начинали сейчас исчезать, и на смену им приходил страх перед неизвестностью, которая ждет в сумерках за любым поворотом. И эта неизвестность может означать для него и гнусное бульканье болота, и внезапно выросшую на пути корягу, и вообще дорогу, которая может привести не в Яковлево, а куда-либо в другое место, не к людям, а от них. Может быть, он прозевал очередной поворот?
Катюша вдруг прижалась к его плечу и шепнула ему на ухо:
— А я с тобой ничегошеньки не боюсь… Одна тут оказалась — со страху померла б.
Он кивнул головой, а в душе, будто в хороводе, заходила радость. Даже на газ надавил в порыве восторга, и вездеход неуклюжим козлом заколотился по выбоинам.
Огни села появились внезапно, будто кто-то взял и выдвинул из черной ночи яркую картинку с блестящим серебром реки, двумя десятками домиков, столпившихся на косогоре, с огнями в окнах и на уличных столбах.
Дорога стала глаже, колея расширилась, и вода перестала хлюпать под днищем вездехода.
— Приехали, — сказал Эдька, и в голосе его звучало неприкрытое торжество, гордость за себя и свою смелость.
Он остановил машину у первого же дома. Ему хотелось просто увидеть человека, сказать ему пару слов, убедиться в том, что все позади и нет вокруг тьмы и болот. Когда заглушил мотор и вылез из вездехода, в уши рванулся прекрасный и давно забытый шум вечернего села: где-то умиротворенно мычала корова, собаки продолжали свою извечную перебранку в разных концах деревни, невдалеке открывали ворота, и их скрип был для Эдьки приятнее любой, даже самой совершенной музыки.
У дома стоял человек. Он шагнул навстречу Эдьке:
— Откуда? Никак через гать шли?
Да. Из партии… Мы теперь тут, по соседству.
Перед Эдькой стоял коренастый парень в фуфайке, белобрысый. Широкий нос, улыбка на лице. Когда пожимал руку, сказал:
— Игнат… Черемисины мы…
Эдька назвал себя. Игнат оглядел вездеход, покачал головой:
— Как это вы? Через гать у нас не всякий пойдет. Силен, паря.
— Вот к вам в гости.
— И то хорошо. Айда в избу.
Все шло так, как будто бы они давно уже знали друг друга, да только расставались ненадолго, а теперь опять увиделись.
Дом был старый, сложенный из толстых замшелых бревен. Высокое крыльцо — под навесом. Почерневшие доски слегка поскрипывали под шагами. В просторных сенях Катюша шепнула Эдьке:
— Ой, куда мы заехали?
Он в ответ сжал ее руку.
В доме было светло и тихо. Игнат усадил гостей на лавку, сам нырнул в низкую дверь сбоку. Тотчас же оттуда вышла худенькая старушка в цветастом переднике. Игнат представил ее:
— А это маманя… Анной Сидоровной кличут. Вот они, маманя, через гать на машине прошли.
Анна Сидоровна кивала головой и ласково глядела на Эдьку:
— А коли б застрял? Там же прорва… Ох, сынок-сынок.
Эдька не знал, что такое прорва, но по тону голоса предполагал, что это — вещь неприятная. Однако мысли на эту тему отвлекали его ненадолго, потому что Анна Сидоровна уже накрывала на стол, а Игнат по ее поручению побежал в погреб и через несколько минут притащил большую крынку молока, а потом на столе появились маринованные грибы, блюдо отварной телятины, чугунок с картошкой, от которого парило так, что у Эдьки остро защемило в желудке, и только сейчас он вспомнил, что не ел с самого обеда. А событий с той поры произошло так много, что минувшие пять часов казались вечностью, а вся предыдущая жизнь была отделена от сегодняшнего момента темной тайгой и топями.
— Оголодали, — заметил Игнат, когда гости торопливо принялись за еду, — у вас там все консервь… А продукту живого нету. Я вот в армии все старшину своего помню. Тот говорил так: «С кухни прожить хорошо годов пять, пока молодость да дурь в голове, а как после того, так к маманиному столу потянет». И то правду говорил. Я вот уже с год дома, так по мне маманины щи главней всего.
Он говорил неторопливо, плавно как-то, и Эдька только сейчас вспомнил, что ему и не пришлось встречаться ни с кем из старожилов. Разве только Савва, да и то речь у него уже пообтерлась в партии. Игнат рассказал, что окончил в свое время педучилище в Благовещенске, потом служил в армии, а теперь вот учит детишек в школе. Здесь всего два класса, в которых вместе занимаются ребята с первого по четвертый. Оно, конечно, колхоз мог бы построить школу получше, да вот учиться некому. По десятку ребят на класс. В город молодые бегут. Бывает и так, что возвертаются, да это больше те, кто женился. А холостежь, почитай, вся в бегах. Судьбу ищут. А что за судьба от земли в стороне?