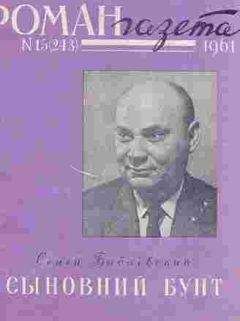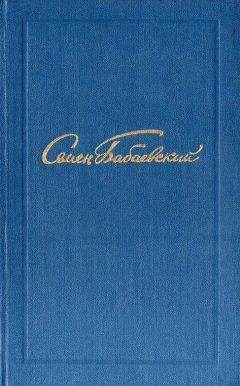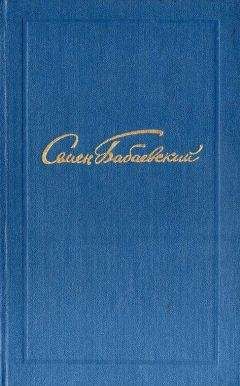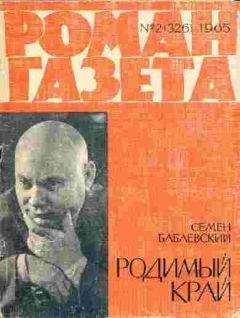— Глупо. — Она посмотрела ему в лицо и, как на островке, улыбнулась игриво и смело. — Зачем обманывать мать? Я сама скажу, и скажу правду…
— Погоди… — Иван опять обнял Настеньку. — Зачем спешить?
— Нет, пойду! Пусти!
— Я слышу, как вы шепчетесь! — кричала Груня. — У тебя она! У тебя!
Настенька резко отстранила руки Ивана. В короткой рубашонке, с голыми тонкими руками и голыми выше колен стройными ногами, она на цыпочках, крадучись, подошла к окну. Головой разорвала золотистую ниточку света и посмотрела в щель. Увидела выбеленное злобой лицо матери, ее чужие, сердитые глаза, испугалась и не знала, что сказать.
— Верни мне дочь, Иван! Верни, идолова твоя душа! Я на тебя найду управу! Соблазнил дочку, а теперь молчишь!
— Мамо, я тут, — глухим, сдавленным голосом сказала Настенька. — И ничего такого страшного со мной не случилось…
— Ой, до-о-оченька, мо-оя ро-одная! — заголосила Груня. — Да что он с тобой сотворил, изверг!
— Ну что вы кричите, мамо! Успокойтесь и идите домой… Я сейчас приду!
— Да как же мне успокоиться! Дома не ночевала, а я должна успокоиться!
— Идите, мамо, домой! Идите, прошу вас…
— Ноженьки мои не слушаются… Погубил девчушку… Опозорил… Головушка моя разнесчастная!
Голос Груни, удаляясь, постепенно утих. Настенька вернулась к Ивану и сказала:
— Переживает, бедная… Оденусь и пойду.
— Зачем одна? Вместе пойдем и все объясним…
— Нет, Ваня!.. Сперва пойду одна… Так будет лучше…
И она стала натягивать на себя платье.
Иван открыл ставни, распахнул рамы. Утренняя прохлада и солнце мигом затопили комнату. Света было так много, что Настенька, заглядывая в зеркальце и причесывая волосы, смешно щурила глаза, а на ее полных, за ночь припухших от поцелуев Ивана губах то вспыхивала, то потухала улыбка — трудно ей было удержать радость. «Развеселая досталась мне женушка, — подумал Иван, когда Настенька, отойдя от зеркала, вдруг рассмеялась. — На расправу к матери собралась, плакать бы надо, а она хохочет…» Иван удивленно сдвинул плечи и спросил:
— Настик, и что такое смешное пришло тебе в голову?
— Корова! — Смех Настеньки оборвался, она смотрела на мужа осуждающе строго, и только на полных ее губах никак не угасала улыбка. — Хороши-то мы, хозяева, о корове забыли! Корову подоить проспали!
— Да, точно, — согласился Иван. — Надо было раньше подняться.
— Бедная корова! — И Настенька опять смеялась. — Из-за нашей любви страдает!
Как же Настенька была обрадована, когда на крылечке увидела подойник, старательно повязанный, как платком, большим полотенцем!
— Ваня! Мы спасены! — Настенька стояла на пороге с подойником в руках. — Наша корова уже в стаде, а молоко — вот оно! Видишь, Ваня, какая у тебя славная теща! Как она на нас обозлилась, а все ж таки корову подоила… Ой, мамо, мамо, какая ты хорошая! Ваня, попей молока, а я сбегаю к матери… Я быстро!
По ступенькам крыльца дробко застучали каблуки. Иван посмотрел в окно, покачал головой, взял подойник и ушел на кухню. Там он зачерпнул кружкой молоко прямо с пеной, выпил не отрываясь и отправился в мастерскую. Думал сразу же заняться чертежами больницы и не смог. Мысленно был в доме у Закамышных и стоял рядом с Настенькой перед грозными очами Груни. Шалел, что отпустил Настеньку одну. «Еще подерут-ся, — думал он, закуривая. — И чего побежала одна? Характер!..» Курил, стоял над макетом и думал. По игрушечным улицам нарядно зеленели игрушечные деревья из куги, к бумаге присохли игрушечные домики — не оторвешь. На полу валялись нарезанные кусочки куги, баночка с клеем была опрокинута — наверно, вчера Иван нечаянно зацепил ногой. Хорошо, что в баночке клея почти не осталось.
Иван смотрел на сухую зелёную водоросль, лежавшую копенкой в сторонке, и улыбался. «Нарочно Настенька сказала, что водоросли кончились, — думал Иван. — Сколько их тут! Можно было весь «парк» засадить, а мы бросили работу и ушли и очень хорошо сделали. — Взял маленький кустик, растер в ладони, как растирают табак. — В эту ночь или чуть позже, на островке или в каком другом месте, а это должно было случиться. И хорошо, что отношения наши теперь окончательно прояснились. — Улыбнулся. — Прояснились? А загс? А чудачество Настеньки?..»
Сегодня ночью, когда они были на островке и под лунным светом серебрился мелкий сухой песок, Настенька вдруг открылась Ивану еще одной стороной своего характера. Высыпая из ладони тонкой струйкой песок на его плечи, она сказала:
— Ваня, а мы не пойдем в загс…
— Как это — не пойдем? — опросил Иван, принимая ее слова за шутку.
— У нас будет новая семья!
— Согласен… Новая — это хорошо! — Иван повернулся к ней, и песок с его плеч слетел. — Но надо же нам расписаться!
— Ваня! И как не стыдно! Ведь настоящая любовь никаких расписок яе требует… Ведь так же, а? А у нас любовь, я знаю, настоящая.
— Оно-то так, согласен, но есть… как это, обычай, наконец, обязанности…
— Ваня, пойми! — Глаза ее блестели слезами. — Не знаю, как бы понятливее сказать… Я так тебя люблю, что мне стыдно давать тебе расписку в том, что я тебя люблю, что буду тебе верна… Разве то, что я с тобой вот здесь, на островке, обнимаю и целую тебя, разве это не стоит ста таких расписок, Ваня?
— Стоит, безусловно… Я понимаю, и я рад, что ты такая, непохожая на всех!
— Вот и хорошо!
.— Но пойми, милая, нельзя же…
— Ну чего нельзя? Чего?
— Ну, нельзя пренебрегать законом!
— Ага! Струсил! Прятаться за закон? Испугался! А еще мужчина! — Она радостно, как ребенок, захлопала в ладоши. — Ой, Ваня! Какой же ты трусишка!
— Это, Настенька, не трусость, а разумность… — стоял на своем Иван. — Мы сделаем только то, что делают все… Обходить закон…
— Опять закон, — перебила Настенька. — Разве есть, Ваня, такой закон, который заставил бы любить насильно? Нет и никогда не будет! Обнимать милого по закону, целоваться, да еще на этом островочке, по закону — это же смех! Закон — вот он! Дай руку! — Она положила широкую Иванову ладонь на свою маленькую, упругую, как резина, грудь. — Слышишь, как стучит?! Вот это и есть наш закон!
— Этот закон самый верный. — Иван лежал на спине и видел, как с месяца сползала, разрываясь, тучка. — И я с тобой, Настик, согласен! Но и ты должна понять, что живем мы не на этом островке, а среди людей, и свои порядки нам устанавливать нечего. У нас есть родители, знакомые… и вообще… Ну что скажет, к примеру, твоя мать? Думаешь, обрадуется и похвалит? Думаешь, скажет: «Ах, какая у меня смелая дочка! Вышла замуж и в загс не пошла!» Такой радости у нее не будет — не жди!
— Да мне-то какое дело?
— Ты ее дочь!
— Смешно, Ваня, получается… Я хочу с тобой жить по любви, а ты со мной — по расписке…
— Глупая, я не настаиваю на загсе. Гражданские браки были в прошлом и непременно установятся в будущем, и они-то принесут людям настоящее счастье…
— Вот и я об этом, Ваня! О счастье!
Весь этот разговор воскресал вновь, и забыть о том, о чем они говорили на островке, Иван не мог. Он смотрел на макет, но ничего не видел. Думал о том, как Настенька вошла сейчас в дом, как разговаривает с матерью, и ругал себя за то, что не пошел вместе с нею… Поднял голову и на пороге увидел Настеньку, грустную, испуганную, молчаливую.
— Ну что?
— Побоялась… Отец тоже дома. В окно увидела его, остановилась и не могла… Ноги подкосились. Ваня/пойдем вместе…
— Пойдем… Только голову повыше, смелая моя!
Иван взял Настеньку под руку, и они, смеясь и разговаривая, вышли из комнаты.
Что может быть хуже и неприятнее, если мысли у человека разбиты, раздвоены и если он думает одно, а говорить вынужден другое? Голова его до краев занята важным событием, которое его волнует и о котором нельзя не думать, а он притворяется и из приличия говорит о том, что не только не тревожит, но что в эту минуту совсем ему не нужно… Что-то подобное случилось с Яковом и Груней Закамышными, когда к ним, наигранно веселые, пришли Иван и Настенька. Родители делали вид, что рады их приходу, а думали о том же, о чем думали Иван и Настенька: как же это могло случиться, что их дочь ночевала у Ивана? Они знали, хотя и без ненужных им подробностей, как раз то, что знали Иван и Настенька, а именно: что их дочь поступила дурно, что ей бы не веселиться надо, а плакать. Своей же показной веселостью родители хотели сказать, что им решительно ничего не известно, а то, что Груня стучала кулаками в ставню и обругала Ивана, так это она сделала так, сгоряча, а теперь вот улыбается Ивану и Настеньке и в душе раскаивается.
Разыгрывать из себя весельчаков им было трудно. Особенно такое не под силу было Груне. Всю горечь обид, какие накопились у нее в сердце, выдавали ее тоскливые, заплаканные глаза. Губы ее с трудом изображали подобие улыбки. Перед приходом дочери и Ивана Груня умылась, причесала волосы, повязалась белой косынкой, но спрятать следы душевного расстройства и недавних слез не могла… И Яков Матвеевич, встречая Ивана и Настеньку, улыбался неестественно, виновато, точно извинялся и хотел сказать: «Дети, дети, самовольные вы чертенята! Если бы вы только знали, как трудно с вами, а мы находим в себе силы и смеемся там, где нужно плакать. Поглядите, дети, какой я радостный нынче. И хотя мне и матери до слез больно, что Настенька не ночевала дома, а мы все же крепимся и улыбаемся…»