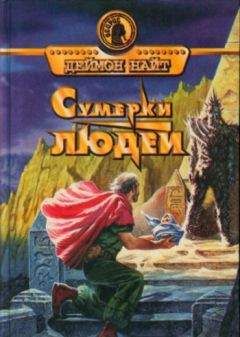Иногда Алексей Петрович возвращался домой выпивши. Тогда он не ужинал, а сразу ложился на кровать и произносил песни. Не пел — голоса у Алексея Петровича не было, — а именно произносил нараспев. Песен он знал всего две:
Старушка старая-престарая
Ходила с батожком…
Полюбила лет семнадцати —
Забегала бегом.
Эта песня считалась у него веселой. Алексей Петрович выговаривал ее дребезжащим насмешливым голоском.
Но скоро веселость оставляла его, он протяжно вздыхал и начинал повторять другую, печальную песню.
тоскливо жаловался Алексей Петрович, —
Купил ворованный пиджак…
А что, что, что…
Купил ворованный пиджак.
Алексею Петровичу нравилось, когда к нам забегала Женя. Он тогда оживлялся, начинал суетиться и повторять:
— А кто же это к нам пришел?! Это Женечка к нам пришла…
Он распахивал свою священную тумбочку и угощал Женю американским фаршем и пастилой.
— Выходите за меня замуж, Женечка, — говорил Алексей Петрович, подперев щеку крохотным кулачком.
Женя, смеясь, съедала пластик фарша, обнимала меня за плечи, прижималась горячим лицом к моей щеке и говорила:
— Нет, вот кто мой женишок ненаглядный! Вот мой верный рыцарь, мой д'Артаньян!
Потом она убегала на кухню, к матери, и там, рассыпая смех, опять и опять говорила про Ленинград, про красивых и умных своих кавалеров, про Фонтанку и Летний сад.
А я сидел, боясь пошевелиться, боясь тронуть рукой лицо, и долго-долго моя щека хранила тепло и запах ее щеки.
Женя обманула меня. Оказалось, я не был её рыцарем и её д'Артаньяном.
Женя вышла замуж за Алексея Петровича.
Американский колбасный фарш и ревность тети Параши Дроновой, выгнавшей Женю с квартиры, сделали свое черное дело.
Я не сразу понял, что происходит. Как-то вечером, прибежав с улицы, я увидел, что кровать Алексея Петровича отгорожена занавеской из байкового одеяла, а перед занавеской стоит мать и говорит кому-то:
— Вот что, голуби ясные… Я, конечно, не Дрониха — гнать вас на улицу не буду. Поживите, пока с комнатой не утрясется. Но и долго тоже держать не смогу. Уж вы извините. Как-никак, дети у меня.
А утром из-за байковой занавески вышла Женя. Глянула поверх моей головы пустым светлым взглядом и проскользнула на кухню.
Так Женя поселилась у нас. Она стянула свои короткие пышные волосы платочком, больше не смеялась, и теперь из кухни чаще доносился не её голос, а матери.
— Ах, Женечка, — негромко говорила мать, — ну кто же льет в рассольник рассол?.. В рассольник надо покрошить соленых огурчиков.
— Ой! — пугалась Женя. — Что же я, дуреха, наделала! Сейчас Алексей Петрович обедать придет.
Алексей Петрович вскоре приходил, усаживался возле тумбочки и ждал, когда ему принесут миску с рассольником.
— Соль поставь, — скрипуче говорил он в женину спину. — Соль и хлеб наперед всего должны быть на столе. Сколько можно повторять?
Они прожили у нас недели две, пока Алексею Петровичу не вырешили комнату в Шлакоблочном поселке.
Странно, что я не очень переживал. А первые дни я был ошарашен, изумлен — Женя и Алексей Петрович никак не соединялись в моем сознании. А когда изумление стало проходить, я заметил, что уже не так сильно люблю Женю. Эту новую Женю, суетящуюся, озабоченную, с испуганными круглыми глазами, я не мог любить по-прежнему…
«Любовь — это разновидность пьянства, — говорил Нушич. — Только после того, как человек выпьет первые два стакана, у него появляется аппетит и жажда, и он начинает опрокидывать стакан за стаканом».
Наверное, я был предрасположен к пьянству — жажда появилась у меня уже после первого стакана. Пьяница, как известно, неразборчив — он похмеляется тем, что под руку подвернется. Так и я, недолго думая, решил влюбиться в Тамарку Дронову.
Тамарка, впрочем, была вовсе неплохой девчонкой, по крайней мере, красивой — уж это точно. У нее была круглая мордашка, большие серые глаза, аккуратный носик и две взрослые косы. И, главное, мы с ней ладили. Тамарка охотно и даже как-то почтительно принимала мои ухаживания.
Но меня смущали ее родители.
У дядьки Дронова была одна нездоровая страсть: он любил играть в карты, в «очко». Обычно, когда я к ним заходил, он лежал после ужина на кровати, задрав босые ноги на спинку её, и скучал. При виде меня Дронов оживлялся, доставал из сундучка захватанные карты — и начиналась битва. Так как деньги у меня не водились, играли мы с ним на щелчки. Дронову не везло — он всякий раз проигрывал.
— Дядя Дронов, может, не надо? — говорил я, видя его огорчение. — Может, отыграетесь потом?
— Щелкай, щелкай, — упрямо сбычивался он. — Щелкай — я за всю жизнь в долгах не был…
— Придешь завтрева? — спрашивал Дронов. И, не сдержавшись, выдавал свою мечту: — Эх, мне б тебя, Колька, хоть разок подкараулить! Уж я тебя щелкану. Я тебя так щелкану, что в штаны наваляешь!..
Я смотрел на черные суковатые руки Дронова, и меня заранее мутило от страха. Ведь должно же было ему когда-нибудь повезти…
Толстая белотелая тетя Параша Дронова была охальницей.
Когда мы, ребятишки, устраивали на Новый год елку в чьем-нибудь доме, тетя Параша мазала лицо сажей, являлась к нам на утренник и устраивала «художественную самодеятельность».
— Мнне мамынька купила
К пасхе новые пажи!..
пела она, тяжело, по-слоновьи, приплясывая и тряся юбками:
А ребята привязались:
Покажи да покажи!
Летом было у нее другое развлечение. Вдруг она, истомившись дома от безделья, с визгом выскакивала на полянку, где мы играли, и кричала:
— Девки, девки!.. Доржите меня — я стойку буду делать!
И с разбегу опрокидывалась на руки. А «девки» — Тамарка и Нинка должны были успеть схватить ее за взметнувшиеся ноги.
Юбки с тети Параши падали, обнажая ее мясистые прелести.
Словом, я решил спасти тихую Тамарку, да и себя тоже, от нехороших ее родителей. Не теперь, конечно, а в будущем.
Такое условие я ей поставил: как только подрастем — сбежим от отца с матерью.
Тамарка поплакала и согласилась.
А я, столкнувшийся уже с женским коварством, тут же назначил ей пробное испытание: завтра весь день пасти со мной корову.
Я пас корову на пустыре, за растворобетонным узлом. Вот туда-то и должна была прибежать ко мне Тамарка, удрав из дому.
— Мамка наказывала морковку прополоть, — попыталась было отговориться она.
Но я был неумолим.
Тамарка не пришла на пустырь. Ни утром, на в обед, ни после обеда.
Я напрасно прождал её целый день и вечером отправился к Дроновым — узнать, что случилось.
Дронов вскочил с кровати и зашлепал босыми ногами к сундучку.
По тетя Параша сказала:
— Ты бы подождал с картями, отец. Жених ведь пришел.
— Какой такой жених? — спросил Дронов.
— Да как же, — хихикнула тетя Параша. — К Тамарке он нашей посватался.
Дронов прозрел. Он сообразил, что все это время подставлял лоб не благородному партнеру, а низкому притворщику, пораженному совсем иной страстью.
— А вот я ему женилку-то отрежу! — пригрозил Дронов.
Я понял, что Тамарка предала меня, — и любовь наша на этом кончилась. Оборвалась легко, как ниточка, и, честно говоря, я даже почувствовал облегчение. Больше не надо было думать о том, как украсть Тамарку у родителей и где жить с ней после этого. Правда, я подыскал в согре укромную сухую полянку и даже начал строить там шалаш. Крутом было полно красной смородины, росли съедобные пучки, попадались птичьи гнезда. В конце концов, можно было настрелять из рогатки куликов — и как-нибудь прокормиться.
Но все это годилось только летом. А как жить в шалаше зимой — я совершенно не представлял.
Про третью, четвертую, пятую любовь не стоит говорить подробно. Войдя во вкус этого дела, я влюблялся легко, но непрочно, часто менял свои привязанности — так что избранницы мои, бывало, не успевали и догадаться, что они обожаемы.
Иногда любовь, как инфекционное заболевание, поражала сразу весь класс. Помню один такой случай. У нас была девочка — очень красивенькая, с длинными пепельными косами. Однажды какой-то сорванец обмакнул кончик ее косы в чернильницу. Гордая красавица, даже не взглянув в его сторону, взяла бритвочку, с большим лишком отрезала испачканный хвостик и выбросила в окно.
Этот жест настолько потряс всех нас, что мы тут же дружно в нее влюбились.
Ох, и натерпелась же она от нашей любви!.. Стараясь привлечь к себе внимание, ее беспрерывно дергали за косы, наступали на пятки, загораживали двери в класс и минутами торчали перед глазами, в надежде, что она рассмотрит, наконец, и выделит кого-нибудь из обожателей, наводили на нее во время переменок сразу по пятнадцать солнечных зайчиков.