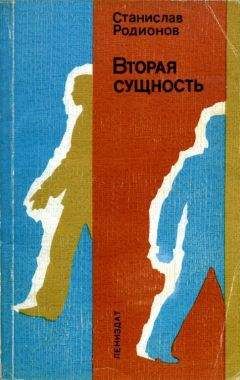Она еще хотела что-то сказать. И я хотел. Но за окнами шумно и со звоном ухнуло — это сбросили на землю рюкзак с бутылками.
16
Собранную посуду, запоздалый боровичок, палку-змею, волнистую чагу и букетик неожиданных цветов я оглядел рассеянно. С Олей согласился, что взрослые дяди маловато выдумывают сказок. С Колей обсудил его окопное ранение. Потом ждал, когда Пчелинцев накормит коз, накачает воды, перетаскает какие-то ящики, ссыплет куда-то картошку — переделает все неотложные дела, которые накопились без него. Все сам, не допуская меня. До собрания осталось часа три.
Мы уселись на скамью-плаху, у молодых сосенок. Пчелинцев устало вытянул ноги. И я увидел, что он еще больше осунулся — на чем очки держатся?
— Чувствуешь себя… хорошо?
— Как шишечка-едришечка. А что?
— Худой очень.
— Легкие и кровь от соснового воздуха у меня голубые. Пищеварение от растительной пищи работает как часы. Мускулы и кости от ходьбы задубели. Ну а раку из-за моей тощины вцепиться некуда.
Мы помолчали. Я придумывал, как бы незаметнее начать разговор о собрании, но все мысли путала Агнесса — ее наплывшие в кухне глаза все еще стояли передо мной, а кричащие, сказанные почти шепотом слова, казалось, прилипли к моим барабанным перепонкам. Володя же откровенно отдыхал — видимо, давали себя знать три работы, хозяйство, недосыпы…
— Лучшие умы человечества — это кто? — вдруг спросил он.
— Это… и есть лучшие умы. Философы, ученые, писатели…
— А рабочий лучшим умом быть не может?
— Почему же…
— Коли есть лучшие умы человечества, то небось есть и худшие?
— Вероятно.
— Так вот: лучшие умы человечества мечтали превратить землю в цветущий сад. А худшие умишки превратили ее в микрорайоны, автострады и бензоколонки.
Разумеется, у меня было что сказать в защиту прогресса. Но это бы нас распалило преждевременно, а затеваемый мною разговор мог потребовать обоюдных сил.
— Что-нибудь случилось? — как можно равнодушнее спросил я.
— Леса вытаптывают.
— Кто?
— Массы.
— Будто для тебя это новость…
— Сосна росла на солнышке полста лет и, считай, вступила в жизнь. Красуется. Тут приехали из города пришельцы с бутылками, запалили под ней костер до небес. И стоит эта сосна как орлеанская девушка, шишки-едришки. Или возьми зайчонка с лосенком… Родятся, сосут матерей, играют на солнышке. Выросли. Одни в лесу и на всем белом свете. Нет у них ни родственников, ни коллектива, ни профсоюза. Тут бы человеку прийти и руку протянуть… И человек приходит — с ружьем!
— Ничего не сделаешь, — рассмеялся я над заячьим профсоюзом.
— Не пускать в лес.
— Ну да, огородить и опечатать.
— Поверь моему слову, к этому придет.
— Никогда, — убежденно заверил я.
— Захотел в лес? Пожалуйста, сперва зайди в Общество природы, выслушай там инструктора о своем поведении на лоне, заплати, скажем, полтинник, получай входной билет — и в лес. Тогда будут природу уважать, да и деньги пойдут на восстановление ими потоптанной травки. Кому от этого худо?
— Полтинник за лес?
— А полтинник за музей, где этот лес нарисован? За кино, за какую-нибудь карусель с качелью… Неужели сосняки хуже?
Труд, природа и любовь… Его кредо. Но теперь мне думалось, что в этой триаде любовь и труд подчинялись природе, — вроде бы и работал он, и любил только ради природы. Ей он служил и на нее молился. Казалось бы, мирное и безобидное занятие. Но у природы слишком много недругов. Понимал ли Пчелинцев, что все враги сосняков — его враги? Все эти хулиганы, необузданные туристы, хапужистые грибники и ягодники, заготовители древесины и всякие покорители природы… И я почему-то вспомнил «Синюю птицу» Метерлинка, где деревья и звери набрасываются на двух детей за то зло, которое сотворило человечество природе. Сказка, в ней деревья могут и отомстить. В жизни они стоят немо и ждут своих Пчелинцевых.
Я глянул на его усталый профиль — нет, не одна природа. Разве с садоводами он схватывался только из-за сосен да консервных банок? Интересно, каков он на основной работе? Ведь не рассказывает.
— А в лесхозе… воюешь?
— Грязь планеты везде есть.
Даже плохих людей он переводил из нравственной категории в какую-то экологическую, глобальную, в грязь планеты.
— Там-то за что? — удивился я, полагая, что лесхозы охраняют природу не хуже Пчелинцева.
— За безотходный лес. Дерево должно перерабатываться от макушки до корней. Бревна в лесу еще не самое ценное.
— Наверное, это зависит не только от лесхоза.
— Предлагаю и что по силенкам. К примеру, корчевать пни непросто. Ежели на них размножить гриб вешенку, то через три-четыре года пней не будет, а грибов завались. Вкусные, ты ел. Еще внедряю заместо сосны естественной сосну натуральную, она древесины дает в восемь раз больше и растет вдвое скорее. Осветляют молодняки не так… Осину вырубят, сосенки оставят. А для лося осина вкусней сосны. Он бы ее жевал, сосну бы миловал, и осветлять не надо…
Пчелинцев говорил с неохотой, наверное, втолковывал не раз и не мне одному. Но эту его борьбу я отлично понимал — конкретно, очевидно, полезно. Так сказать, рацпредложения. И вкусные вешенки мне понравились. Не абстрактная и какая-то вселенская битва за природу земного шара, включая кислород. Да и с кем? С человечеством?
Разумеется, мне тоже хотелось бы жить в нетронутой природе. Я полюбил эти сосняки и отдыхал в них душой и телом. В конце концов, сохранить леса нужно и для того, чтобы бедолагам вроде меня было куда прятаться, как говорит Пчелинцев, от грязи планеты. А может, и от себя.
Но я не забывал, что природа безжалостна и человек ее мало интересует. В десяти километрах от земли он погибнет без воздуха, задохнется в глубокой шахте, обморозит лицо на севере, лопнут барабанные перепонки в морской глубине, упадет от обезвоживания в пустыне, сгорит на вулкане… Останься мы без топлива на зиму, вымерзнем, как клопы. Заблудись в любимом Пчелинцевым лесу — умрешь с голоду. Знает ли он про это?
— Сегодня у вас собрание, — угрюмо сказал я.
— Да, полезут друг к другу на рожон.
— Лишь бы не к тебе.
— И ко мне заберутся во внутренности.
— Не давай повода. Не учи их, к примеру, рыть пожарный водоем, — посоветовал я как можно задушевнее.
— Они ж сгорят.
— Ну и пусть.
— Пусть люди горят, а тебе до еловой палки?
Он вдруг сел собранно, будто отдохнул или выспался за наш монотонный разговор. Очки блестели, уши розовели. Крупные жилистые руки лежали на коленях уже беспокойно.
— Володя, — начал и я нервничать. — Можно бороться за личные интересы. За должность, за квартиру, за детей, за свое доброе имя… И это по-человечески понятно. Можно бороться за коллектив, за план, за продукцию. Вот ты рассказал про свою работу, и мне все ясно. Я — за. Но кто тебя поддержит, когда ты страдаешь за лося, который бегает себе по лесу без смысла и предназначения? За сосну, которых миллионы? Заступился за сосну… Не за человека, а за дерево. И звучит-то смешно.
— Дерьмо густеет, — презрительно сказал Пчелинцев, не глядя на меня.
Я оторопел, не зная, как отреагировать — обидеться ли, возмутиться ли… Но вспомнил студенческое «маразм крепчал», когда намекали на прущую дурь. Пчелинцев употребил что-то вроде синонима.
— А еще поэт, — наконец придумал я, как отреагировать.
У летнего рукомойника умывались ребята — Оля визжала, Коля обливал ее водой, а Черныш лаял. В доме торопливо бегала Агнесса, накрывая на стол. Где-то играл мощный проигрыватель — певица шептала песню на все садоводство.
— Володя, — примиряюще начал я. — Воздержись на собрании от речей. Прошу тебя.
— Там о лосях разговора не будет.
— Лоси и сосны хоть материальны… Когда ловил Волосюка, за что боролся? А когда профессора зовешь Мишкой — тут за что?
— Да у меня отец, шишки-едришки, на фронте погиб! — повысил он голос.
— Это… к чему?
— За что он погиб? За материальное? За жратву, за шмутки да вот за эти дачки?
— А за что? — по-дурацки спросил я.
— За наши людские отношения.
Я умолк, как споткнулся. Мне вдруг открылась иная грань его характера, иной смысл его беспокойства, до которого раньше я почему-то не смог дойти. Борьба за человеческие отношения… Где-то в каморках сознания отыскалась цитата, читанная еще в юности, а потому и не забытая. «Кто пьет из колодца истины, тот никогда не напьется». Чья эта мысль?
— Неужели ты хочешь переделать человеческие натуры? — изумился я.
— Хотя б рога обломать тем натурам, которые бодают правду.
— Человеческую натуру не изменить. Это большая сила.
— А я что — слабый?
— Не сильнее людского консерватизма.
— Ерунда еловая! Сильный борется со слабым…. Да зачем сильному с ними бороться? Они ж и так слабые. Нет, шишки-едришки, сильные бьют не слабых, а непокорных.