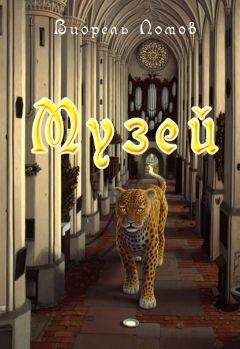— Физмат, — сказал гость.
Макарцев даже не похвалил себя за проницательность. Что-что, а людей он быстро понимал. Теща поставила перед ним тарелку: холодную куриную ножку и два помидора — как он любил.
— А вы не ужинаете?
— Благодарствую, — буркнул гость.
Не очень-то он был разговорчив.
— Не хочет, — объяснила теща. — Говорит, сыт. А я по вечерам сохраняю талию. Как говорят французы, минуту на языке, всю жизнь на бедре.
— Вы редактор «Трудовой правды»? — Александр покосился на красные свежие декабрьские помидоры.
Было непонятно, хочет он в связи с этим о чем-то попросить (есть, что попросить у главного редактора газеты, — этому Игорь Иванович не удивлялся, воспринимал как должное и по мере возможности помогал) или тоже спросил просто для вежливости.
— Да, я журналист, — подправил Игорь Иванович и продекламировал: — В тридцать лет очки себе закажешь, в тридцать пять катары наживешь, в сорок лет «адью», ребята, скажешь, в сорок пять убьют или помрешь…
— Это чье сочинение?
— Народное. Молодые газетчики, подвыпив, поют. А кто постарше да перевалил рубеж, помалкивает.
— Вам сколько?
— Отстукало пятьдесят шесть.
— Выходит, не все пророчества сбываются! — гость опять покосился на алые помидоры.
— Зато у меня радикулит, печень пошаливает, — улыбнулся Макарцев.
— В физике есть такое понятие — порог. Вода, вода — и вдруг за порогом — лед, другое качество. У человека, думаю, пороги относительны.
— А как твое здоровье, Саня? — спросила теща.
— Лет десять назад, думал, наступил мой порог. Врачи пугали: обречен. А вот вытянул сам себя за уши… Ну, мне пора. Я по вечерам тоже работаю…
— В режимном институте? — спросил Макарцев, снова уверенный, что не ошибается, поскольку большинство исследовательских учреждений — почтовые ящики.
— Почти! — гость поднялся. — Желаю вам!
Они пожали друг другу руки, и теща пошла проводить одноклассника своей сестры. В коридоре слышались их приглушенные голоса, смех. Игорь Иванович отставил тарелку, налил полстакана боржоми, выпил, подождал отрыжки, вынул губами из пачки «Мальборо» сигарету, сладостно затянулся. Теща вернулась.— Понравился мой гость?
— В общем… — корректно пробурчал Макарцев, уже думая о своих делах.
— А скромник какой! Ведь весь мир о нем говорит и пишет!
— Весь мир? — Макарцев вынул сигарету изо рта. — Да кто он такой?
— Иногда вы меня удивляете, Игорь! Солженицын.
— Сол..?! — Макарцев закашлялся.
— А что удивительного?— Нет, ничего…
Он встал и скрылся в спальне.
«Раковый корпус», когда решался вопрос о публикации в «Новом мире», Макарцеву дал почитать худощавый товарищ, предпочитающий быть в тени. Игорь Иванович вернул верстку через три дня.
— Ну как? — спросил тот. — Твардовский ждет ответа.
— Не знаю. Если выкинуть намеки, то, может, разрешить?
— Мы-то с тобой правильно понимаем. А масса? И потом, разреши это — завтра попросят еще острей! Солженицын — не наш человек.
Прежде всего вылезла обида на тещу. Макарцев, походив по спальне, вышел снова. Теща мыла на кухне посуду.
— Учтите, что вашего Саню, — он сознательно не хотел произносить фамилию, — скоро исключат из Союза писателей за антисоветчину!
— Это будет большой ошибкой! В свое время ругали Есенина, Пастернака, Булгакова, а теперь?
— Вы хоть знаете, что он имеет связи с заграницей и за ним ведут наблюдение органы?
— Это же глупо! Он честный человек, честнее нас всех. Ему еще недавно хотели Ленинскую премию дать.
— Да, он обнялся с Хрущевым.
— А без Хрущева — он уже не талант?
— Не хочу я спорить о его таланте. Но, приведя его сюда, в какое положение вы меня ставите?!
— Ах, вот вы, Гарик, о чем!
— Допустим, на меня вам плевать, — не давал он ей отговориться, — но о дочери и внуке вы подумали? Их положение тоже зависит, между прочим, от меня!
— По-моему, сейчас не тридцать седьмой!
— Много вы понимаете! Может, я даже симпатизирую этому вашему Сане. Не исключено, что он без пяти минут Лев Толстой. Так это или не так, пускай потомки разбираются. Вы учительница литературы, а я, как говорится, ответственный партийный работник, черт побери! И мои симпатии и антипатии определяете не вы и не ваш одноклассник!
— Не мой, а Настин!
— Пусть Настин!..
— Я поняла, не будем заниматься политграмотой… Больше вы о нем не услышите. Я имею в виду, не услышите от меня.
И теща с достоинством вышла.
— Извините за резкость, — бросил он ей вслед.
Но еще и на другой день он был зол на нее. Она, конечно, говорила с Зиной и с внуком. Не хватало еще, чтобы сын начал презирать его за трусость!
Известно ли там, что Солженицын был у него дома? Целесообразно застраховаться. Решение, как это сделать лучше, голова подыскивала ночью, а выдала утром, когда Игорь Иванович заехал в ЦК. Шагая по коридору, он объяснил себе, что вправе наступить на свои интеллигентские соображения по мотивам идейным и, помня о чаепитиях под липами, заглянул в кабинет помощника человека, предпочитающего быть в тени.
Хомутилов, помощник по печати, сухой и длинный, похожий на своего хозяина, говорил мягко и неторопливо. Знакомы они были с конца тридцатых годов. Макарцев попросил провентилировать, не сможет ли сам принять его по короткому и важному делу.
Приняли его в тот же вечер. Игорь Иванович доложил, что в редакцию поступает масса писем трудящихся, осуждающих Солженицына. До сих пор газеты хранили молчание, может быть, теперь пора дать несколько откликов? Макарцев понимал, что здесь может не понравиться, когда советуют, как вести идеологическую линию, но в случае чего он застраховывался от обвинения в симпатии к Солженицыну. Во время приема, однако, худощавый товарищ не высказал своего отношения, а захотел взглянуть на письма.
В редакции Макарцев вызвал исполняющего обязанности редактора отдела коммунистического воспитания Таврова и предложил срочно подготовить отклики. Через полтора часа они лежали у Игоря Ивановича на столе под заголовком «Клеймим позором!». В тексте говорилось о Солженицыне все, что нужно. Макарцев зачеркнул заголовок и написал: «Протестуем!». Он знал, что всякая кампания разгорается постепенно и надо оставить керосина про запас.
День спустя Хомутилов позвонил Макарцеву и разрешил поставить в номер. Газета вышла, и он думал, теща не удержится, выдаст ему нечто обидное. Но вечером Зинаида сказала, что она проводила мать на поезд. Мать хотела остаться на Новый год, а сегодня вдруг передумала.
— Хоть бы попрощаться позвонила, — сказал он, в душе довольный, что не позвонила.
— Просила тебя поцеловать.
Значит, теща ничего не сказала Зинаиде.
— Пусть хоть вообще к нам переедет…
— Она у меня самостоятельная, Гарик, ты знаешь!
После «Трудовой правды» кампания против Солженицына была поддержана всеми газетами, ТАСС и иностранной коммунистической прессой. Макарцева похвалили на идеологическом совещании в ЦК за правильную линию. Так он снова чуть не зацепился за сучок, но обошлось.
В таких действиях была особая радость: в любых обстоятельствах всегда поступать, как нужно партии, хотя ты лично можешь с чем-то и не согласиться, даже считать иначе. Да, иначе, поскольку ты не машина, а живой член партии. Но, конечно, не согласиться в душе, не высказывая этого. Поступить ты обязан так, как считает партия. Тут-то и коренится разница между ленинской принципиальностью и принципиальностью абстрактной, аполитичной совестливостью.
В молодости Макарцев терзался, чувствуя, что иногда из-за необходимости выполнять нелепые приказы унижается его собственное достоинство. И нащупал выход: достоинство не страдало в том случае, если он сам, еще до постановления, мог постичь, что в данный момент партийно, а что нет. Плохой же, недалекий партийный руководитель ждет указания. И хотя в конечном счете результат один, поскольку предвидеть — значит поступить в соответствии с постановлением, которое еще не поступило, — принципиальная разница несомненна, как разница между словами «угадать» и «угодить». Без ложной скромности Макарцев относил себя к хорошим партийцам.
Однако же нелегко двигался он по жизни, не избежал нравственного дискомфорта. Был у него близкий друг, или приятель — дело, в конце концов, не в названии. Во всяком случае, не чужой человек, как Солженицын, когда ничто личное не задето. С Андреем Фомичевым, редактором «Вечерней Москвы», виделись они то часто, то реже, но перезванивались регулярно. Анна Семеновна знала: с Фомичевым соединять немедленно, что бы в кабинете ни происходило.
Они вместе начинали. Оба любили газетное дело, оба были полны энергии, оба удачно избежали неприятностей определенного периода, хотя висели на волоске. Возможно, помогло и то, что они предупреждали друг друга об оплошностях. Так или иначе, но остались невредимы и даже выросли. Макарцев ушел вперед, а Фомичев старился в городской «Вечерке».