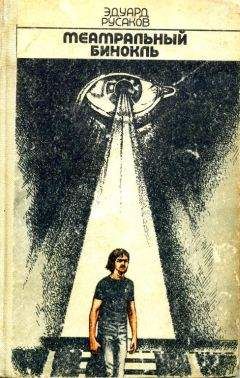Если уж я не могу разобраться в путанице собственных, мотивов, как мне проникнуть в чужие замыслы? Да и зачем? Какая для меня разница — искренне ли переживает Нинель Петровна о судьбе больной матери или просто хочет избавиться от нее? Ведь в принципе это ничего не меняет. И не все ли мне равно — с какой целью так расстарался Антон Трофимыч? Уж, конечно, не ради меня... но ведь и его можно понять по-разному. Либо он просто угождает своей «даме», либо хочет меня купить этим благодеянием... я ведь буду теперь вечно ему обязан! Теперь — по его расчетам — мне «совесть не позволит» когда-либо что-либо против него вякнуть. Может, и так. А скорее всего, тут все смешано... ну, конечно же! Как всегда, как обычно...
Но мне-то какое до всего этого дело?
Почему я-то терзаюсь?
Разве на меня падает тень от чужих, пусть даже коварных, замыслов? Ведь сам-то я не плету никаких интриг. Я нуждаюсь в квартире — мне ее предлагают. Так в чем же дело?
Почему я так неспокоен?
Я никого не предал, не обманул. Ситуация абсолютно проста. Чужие соображения меня не касаются.
Ведь все так просто! Так просто...
...Простившись с начальницей ЖЭКа и поблагодарив ее за содействие, я вышел на душную улицу. В кабинете было немного легче дышать. А здесь — предгрозовая, что ли, духота, зной.
И вот я опять иду но центральной площади, приближаясь к своему дому, и встречаю стоящих возле сказочного городка своих близких: маму, Люсю и Надю.
Я здороваюсь с ними, рассказываю о результатах прошедшего дня, узнаю, что нет никаких новостей о пропавшем брате, высказываю свои ничтожные соображения... и вдруг снова чувствую: кто-то смотрит на меня.
Оглядываюсь — никого.
— Что ты вертишься? — опрашивает Люся.
— Да так... показалось.
Не все ли равно, о чем я подумал?
— А мне кажется, — заявляет вдруг мама, — что Сашка просто убежал.
— Как это — убежал? — изумляется Надя.
— А вот так, — настаивает мама, не глядя ни на нее, ни на кого из нас, а глядя на бревенчатую стену крепости. — Я почему-то уверена — он просто сбежал. Материнское чутье подсказывает... и потом — я всегда ждала чего-нибудь такого...
— Чего? — не поняла Надя.
А я — молчу.
— Мне всегда казалось, что Сашка может сбежать... — и мама уходит в сторону. То есть, буквально уходит — в сторону своего дома. Мы все живем рядом.
— Постойте! — кричит ей вслед Надя. — Екатерина Семеновна! Что вы такое сказали? Как он мог сбежать? От меня?! Объясните, пожалуйста!
Но мама уходит, уходит... ушла.
Надежда смотрит на Люсю, на меня — и требует ответа.
Но я ничего не могу сказать. И ничего не могу сделать. А что я думаю?.. Господи боже мой!.. не все ли равно, что я думаю?
Вспоминается всякая чепуха. Вот сейчас, например, я зачем-то вспомнил, как когда-то впервые встретил Надежду, познакомился с ней, влюбился... да, да! — все было именно так.
Жаркий июльский полдень, дом отдыха, волейбольная площадка, трое на трое, и главная соперница по ту сторону сетки — юная Надя, наяда, хохочущая, скачущая, загорелая, в белых шортах, сверкающая карими глазами. Ах, резкая подача! Удар! Еще удар!
Я отдыхал по путевке, а Надя жила на исполкомовской даче, рядом с домом отдыха. Вместе с мамочкой и папочкой, которые приезжали и уезжали в казенном автомобиле с казенным шофером. Познакомившись с Надей, я стал бывать у нее дома, в семье «ответственного работника», в атмосфере комфорта и благополучия. Моя влюбленность вскоре, пошла на спад — слишком уж Надя была жизнерадостна, слишком активна, самоуверенна. Она слишком легко относилась ко всему, и ко мне тоже. Меня это, естественно, раздражало. Сам я никогда не бываю в чем-либо твердо убежден, и чужая самоуверенность меня просто бесит.
Когда я решил, наконец, отказаться от Нади и перестал являться к ним в дом — она не поверила. Она думала, что я ее «испытываю», «проверяю». Но время шло — а я не появлялся. Тогда она сама пришла к нам, в нашу коммунальную квартиру (в те годы мы жили втроем в одной комнате — я, мама и Саша). Надя пришла, чтобы объясниться со мной, а встретилась с братом. Меня не было дома. Представляю, какая она была эффектная! В мини-юбке, загорелая... Саша потом рассказывал, что она, конечно же, сразу сообразила, что он — не я, но все равно наше сходство показалось ей таким поразительным и невероятным, что она вдруг стала смеяться, и смеялась так долго, безостановочно, что Саша даже испугался, — уж не истерика ли это? А это и была типичная истерика. Но Надя ему, вроде бы, заявила потом, когда приступ веселья закончился, что подобное зеркальное сходство не может не быть смешным. Она долго еще не могла успокоиться, все смеялась. А Саша ее успокаивал — поднес стакан с водой, что-то бормотал. Представляю картину. «Я в нее влюбился с первого взгляда», — смущенно признался он мне чуть позже, когда захотел с моей помощью выяснить, имеет ли он «моральное право»?..
Я сказал: пожалуйста, ради бога.
И я не кривил душой. Я не хотел любить Надежду. Любовь еще тлела во мне, потрескивала догорающими угольками, но я не хотел. Я изо всех сил старался ее разлюбить. Надя пыталась (не очень долго) меня обуздать, приручить, вернуть, — но я категорически не желал оставаться в ее подчинении. Тут обнаружился следующий парадокс: если в официальной, казенной жизни, на службе я никогда не стремился быть лидером, руководителем, то в семье, в быту, в личной жизни — я терпеть не могу, чтобы мной командовали, распоряжались. Поэтому мой краткий летний роман с экзальтированной волейболисткой не имел никаких перспектив. Мне нужна была простая тихая девушка, которая любила бы меня спокойно и ровно, без романтических эксцессов. А если уж совсем честно, без лукавства: мне нужна была скромная девушка, которая бы п о д ч и н и л а с ь мне с самого начала. И я такую нашел, хоть и не сразу.
А Надежда... ну ее к черту. Она до сих пор меня раздражает. Ведь мы вынуждены встречаться, разговаривать, — а зачем мне такая родственница? Вся эта история, весь этот затейливый сюжет, вся эта любовная путаница с братьями-близнецами, — все это имеет какой-то комический, фарсовый даже, оттенок. И меня это злит. Я до сих пор не успокоился. Я и сейчас не могу относиться к Надежде просто, бесстрастно — я слишком злопамятен. Тем более теперь, когда потерялся Саша, — я не могу не обвинять в этом именно ее. Я убежден, что она истерзала его инфантильную душу, выжала его, как лимон. Я в этом не сомневаюсь.
...а иногда по ночам, в полусне обнимая прильнувшую жену, я внезапно, против собственной воли, представляю, что рядом со мной — Надежда. Я этого не хочу, не желаю, проклинаю ночное наваждение, но даже сжав веки, продолжаю видеть во мраке бледное лицо чужой женщины, ослепительный карий блеск ее расширенных глаз, ее смеющийся рот... будь ты проклята!
А жена, обманутая моей страстью, адресованной совсем не ей, радостно что-то бормочет, прижимается крепче. «Прости меня, прости, — шепчу я и чуть не плачу от жалости к ней, — прости, пожалуйста...» — «За что? — удивляется она. — Мне так хорошо с тобой... За что — простить?»
Я знаю за что.
Наваждение, наконец, рассеивается, тает.
Сгинь, сатана. Сгинь, сгинь, сгинь, сгинь, сгинь, сгинь.
Полина Ивановна расплакалась, схватила мою руку, забормотала, глотая слова:
— Аркаша, сыночек, спаси меня! Они тут все сговорились!
Испуганно оглянулась, зашептала:
— Она их всех подкупила!.. Всех до одного, и врачей, и сестер, и санитаров...
— Да что вы, Полина Ивановна!
— Тихо, не оглядывайся... они тут все заодно. Надели белые халаты — и думают, я их не разгадаю. Одна шайка!..
— Успокойтесь, Полина Ивановна, успокойтесь. Ведь я — с вами, я не позволю ничего плохого. Кто желает вам зла?
— Моя дочь, эта скрытая контра, она их всех подкупила. Она хочет избавиться от меня. Аркаша!.. ты мне не веришь?
— Успокойтесь, пожалуйста.
— Да что ты все успокаиваешь?.. Я чувствую — скоро умру. Они подсыпают мне в пищу отраву... медленный яд. Сегодня я вообще ничего не ела, и не буду есть... Лучше с голоду помереть, чем от их отравы. Ставят какие-то уколы — зачем? Травят меня, травят... Аркаша, голубчик!., ты был моим любимым учеником... спаси меня, мальчик!
— Успокойтесь, ради бога. Никто не собирается вас травить. Никто. Скоро вас переведут в дом-интернат, там хорошо, чисто, уютно, цветной телевизор, у вас там будет отдельная комната...
— У меня есть своя квартира! — закричала она. — У меня квартира, зачем мне в дом-интернат? Аркаша — что ты говоришь?! Аркаша... — и она вдруг замолчала, с ужасом уставилась на меня. — Аркаша... мальчик... неужели — и ты?
— Что? — прошептал я. — О чем вы?
Она продолжала смотреть на меня со страхом, посиневшие губы ее что-то невнятно шептали.
— Полина Ивановна, что с вами?
— Аркаша, они и тебя... купили... — произнесла она с тоскливой убежденностью. — Ты тоже — против меня... я только сейчас поняла... по твоим глазам поняла... Почему ты избегаешь смотреть на меня?