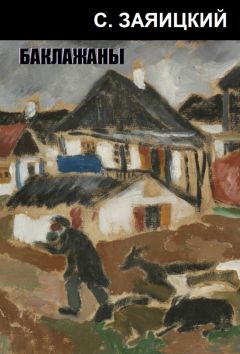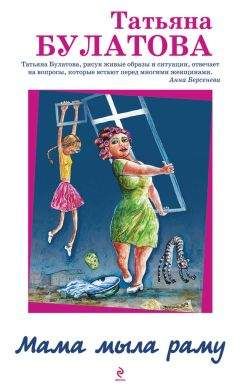— Ты еще не спишь, Степа? — проговорил тетушкин голос в окно. — А я нашла способ, как твой полтинник у Ромашки выудить. И Вера мой способ одобрила. Ну, спи. Христос с тобой. Но какой же это мошенник!
Она ушла, и теперь была за окном только та самая украинская ночь. Самая первая и самая непримиримая самостийница.
— Ту-ту-ту-ту-ту-ту…
Словно швейная машина быстро работала за стеною.
Кто-то шил на машинке и при этом хныкал и ревел во весь голос:
— Ту-ту-ту-ту-ы-ы-ы-хнык, хнык, хнык…
Степан Андреевич открыл глаза.
Янтарем ясного солнца залита была вся комната. Ослепительно зеленел за окном сад.
Даже дохлая крыса на картине, казалось, улыбалась из-под своего кирпича.
— Ту-ту-ту… ы-ы-ы…
Это вовсе не швейная машина стучала, это бормотали что-то приглушенные стеною голоса, а среди них кто-то действительно хныкал и ревел иногда тихо, иногда во весь голос.
Лицо тетушки в кружевной наколке заглянуло в окно и скрылось.
— Когда оденешься, зайди в кухню, — произнес из-за окна голос.
Степан Андреевич умылся с наслаждением холодной водою и надел, кроме трех предметов, которые составляли его туалет, на этот раз и пикейный пиджак. Затем тщательно причесался перед зеркалом. На столике он нашел коробку папирос и несколько медяков. Медяки он оставил на столе, а папиросы сунул в карман. «Ну вот, а тетушка волновалась», — подумал он.
Затем он пошел в кухню.
Кухня в доме Кошелевых была столь же необыкновенна, как и все в этой стране солнечных и лунных фантазий. Белая и чистая как снег, она сияла крашеным полом и хорошенькою кафельною плитою. Стены были сплошь увешаны глянцевитыми женскими головками, вырезанными из немецких журналов. Красавица кормила голубя зернышками изо рта, другая прикладывала пальчик к губам, сделав из ротика малюсенький бутончик, третья играла на арфе, а амурчик сидел у нее на плече и давал ей нюхать розу.
Перед кухнею на дворе — на зеленом, поросшем травою дворе — стояло целое общество.
Тут была тетушка Екатерина Сергеевна в белом праздничном чесучовом платье и с кружевом на голове. Тут была Марья, грязная как черт, но как будто менее грязная, чем вчера: очевидно, она по случаю праздника не окунулась в помойку. Еще стоял какой-то дядько с седыми усами, как у Тараса Бульбы, в пиджаке и блестящих сапогах, какая-то женщина, слегка кривобокая, но довольно красивая, одетая по-праздничному в красную юбку, голубую кофту и белую косынку, словно царский флаг, решивший назло всем прогуляться по Советскому государству. А еще стоял Ромашко Дьячко, тоже одетый по-праздничному, но не по-праздничному хныкавший и причитавший.
Седой дядько от времени до времени дергал его за ухо, и тогда Ромашко принимался реветь во весь голос и вырывался, однако осторожно, чтобы не измять своего праздничного наряда.
Увидав Степана Андреевича, и Тарас Бульба и трехцветная женщина поклонились ему почтительно, а Екатерина Сергеевна сказала торжественно:
— Послушай, Степа, что только говорит этот мошенник. Будто он к тебе в комнату вчера отнес папиросы и сдачу.
— Верно, — сказал Степан Андреевич и показал папиросы.
Все недоуменно переглянулись между собою, словно увидали фокус, и все лица изобразили немое разочарование. Только Марья выразила удовольствие:
— Я ж говорила, що понапрасну хлопца трусили…
— Ну, все равно, Степа, ты ж ему не доверяй… А ты сдачу-то пересчитал ли?
— Пересчитал.
— Так-таки ничего не украли?.. И в комнате все цело? Полотенце цело ли?
— Все на месте…
— Ну, ступай, Ромашко, — сказала тетушка со вздохом, — но смотри, в другой раз не кради… Бог все видит, вон он на нас смотрит.
Екатерина Сергеевна указала пальцем на небо. Все поглядели. Чистое, голубое было небо, только одно облачко белело высоко, высоко. Может быть, и в самом деле была то седая борода Саваофа, внимательно наблюдающего за земными жуликами.
Чинно поклонившись, удалилось семейство Дьячко, а из дому между тем в белом кисейном платье вышла Вера.
В церкви уже звонили, и звон был очень странный. Казалось, что молотком бьет по сковороде нервный человек.
* * *
Храм Казанской божьей матери в Баклажанах был синеглавый, голубой деревянный храм, чистенький, и уютный, и легкий, как елочный картонаж. Стоял он очень красиво среди огородов и баштанов, и перед ним была большая зеленая лужайка.
На этой лужайке теперь толпился народ, словно на ярмарке. Разряженные сивые волы мерно пережевывали свою жвачку и вид имели при этом очень важный, словно профессора, читающие в сотый раз одну и ту же лекцию. Возле арб сидели и возились загорелые ребятишки. Там и сям горел, как крыло жар-птицы, оранжевый рукав иной черноокой жинки. Но где вы, куда вы исчезли, знаменитые хохлы в вышитых свитках и в синих, с Черное море шириною, шароварах? Спокойно и важно расхаживали между дивчатами парубки в защитных френчах и в галифе с флюсом, а на кудрявых их головах не красовались уже серые смушки, а велосипедные картузики, заломленные назад по системе парижских апашей.
Перед храмом стояли длинные столы, в стороне на кострах, в огромных котлах, бабы варили что-то и мешали ложками. Горой лежали хлебы и пироги, румяные и поджаристые.
— Это будут после обедни угощать духовенство и нищих, — сказала Екатерина Сергеевна, — впрочем, всякий может поесть, кто проголодается. Ведь сюда за много верст съехались и с хуторов и из поселков. Вон Роман Дымба приехал, а ему уже сто двадцать лет. Помнит он бунт декабристов, он тогда в Петербурге служил солдатом, только все он путает, говорят, что у Николая Первого была длинная рыжая борода и сам был он будто маленький и толстый.
Роман Дымба, слепой и седой как сыч, сидел согнувшись в тени двух огромных волов и что-то строгал ржавым ножом.
— Это он праправнуку дудку точит… А вон и Петр Павлович.
Бороновский был в белой полотняной куртке, заштопанной местами, но чистой, и в руках держал соломенную шляпу.
— Часы кончаются, — сказал он тихо, благоговейно глядя на Веру, — сейчас начнется.
Степан Андреевич давно не был в церкви у обедни. Бывал только с барышнями на пасхальной заутрене, но и тогда вместо молитв предавался он романтическим мечтаниям о невозвратимом детстве и о том, как, бывало, в старину разговлялись.
Ему вдруг чрезвычайно захотелось проникнуться общею торжественностью. Он вошел в церковь почтительно и постарался оробеть, как робел, бывало, в детстве. Впрочем, робости настоящей не вышло, только шея скривилась.
Стали все Кошелевы на почетном месте справа, на когда-то очень пестром коврике.
В голубом тумане, прорезанном косыми лучистыми колоннами, обозначались изображения святых. Палач взмахивал мечом над головою склонившегося Крестителя.
Однако благоговенья все как-то не получалось, и когда дьякон, выйдя из алтаря, поднял орарь и возгласил: «Благослови, владыко» — Степан Андреевич вспомнил, что забыл дома мелочь.
«Наверное, пойдут с тарелкой, — подумал он, — скандал какой».
Огляделся и замер.
Блондинка стояла впереди, немного наискосок. Она была в белом платье, сшитом не совсем по-модному, но не слишком длинном. На ней были белые чулки и белые туфельки на высоких каблучках, которые имели, впрочем, тут, в храме, весьма смиренный вид, так что было даже удивительно — простой каблук, а понимает.
Блондинка крестилась, склоняя лебединую шейку. Степан Андреевич возвел очи и попытался помолиться. Ему при этом вспомнилась его старая няня, имевшая обыкновение молиться так: «Господи, помилуй, денег дай». Потом пришел в голову глупый каламбур, что молиться истово можно, молясь в то же время неистово. Он встряхнул головою и оглянулся на происходивший в середине храма торжественный обряд. Четыре священника облачали владыку, а он стоял, высокий и величественный, — Шаляпин в роли Годунова.
Екатерина Сергеевна молилась истово. Качая головою скорбно и умиленно, она сначала долго придавливала ко лбу щепотку, а затем переносила ее медленно к животу и плечам, шепча что-то убедительно беззубым ртом. Видно было, что все эти нарисованные на стене святые — ее близкие друзья и вполне реальные знакомцы и что она отлично знает, к кому, зачем и как обратиться.
Вера стояла почти все время на коленях, и лицо ее было какое-то просветленное, какого ни разу еще не видал у нее Степан Андреевич.
Бороновский держался в стороне, Он совсем не крестился, он был напряженно задумчив и иногда, прищурившись, словно выискивал что-то в туманном куполе.
Дядьки и жинки молились с чувством и деловито. Еще были в храме какие-то дамы, одетые по моде семидесятых годов, имевшие весьма жалкий вид. Они все тихонько здоровались с Екатериной Сергеевной.