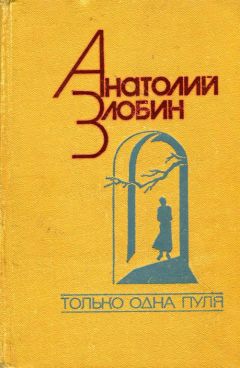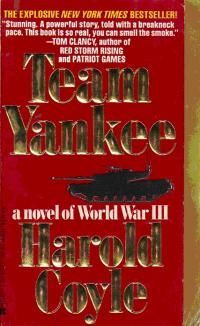— В том и дело, что он восьмимесячный был. Извещение раньше времени я привез. Ей операцию делали, а что дальше — туман неизвестности.
— Еще лучше, одна будет. Молодая. Десять раз родит. Не убивайся, романтик. Тем и прекрасна жизнь, что не знаешь, какую извилину она завтра преподнесет. Поэтому выпьем за извилины. Они у тебя имеются. Уважаю.
Выпили — крякнули. Сухарев опустил кружку, оторвал от нее потемневшее лицо.
— Она тоже хороша! — с тяжелой обидой начал он. — Зачем кричала? Что он, единственный? Вот и Нечкин твой кончился. И Аркашку нашего на вечный причал. Зачем же в крик, я спрашиваю? Разве нельзя по-тихому?
— Пресечь! — скомандовал майор Дробышев. — Я им вообще слова не даю.
— Баба она и есть баба, — с облегчением решил Сухарев. — Только вот столицу проморгал.
Эх, товарищ капитан Сухарев. Дважды орденоносный, трижды пронзенный пулями и осколками, не единожды еще не любивший, хоть и четырежды по случаю переспавший, разлюбезный капитан Иван Данилович, кому ты мозги вкручиваешь? Принял триста граммов с прицепом — смотрите, какой отважный стал. Да всем давно ясно, что ты с первого взгляда в Маргариту Александровну втюрился, да еще как, на полную катушку, оттого, стало быть, и хорохоришься теперь, стоя за мраморным столиком, где от недавнего белоснежного прибоя остались грязные пивные подтеки.
А кто тебя в больницу тянул? Майор Петров дал приказ? А что ты там наговорил? Какую записку написал?..
Но в подобных мыслях Сухарев даже себе самому робел признаться. «Она же теперь свободная, — упоенно думал он с утра и тут же себя осаживал: — А мне-то что с того?»
И сразу, надраив на углу сапоги за трешницу, сломя голову кинулся искать больницу.
Там он долго ждал, когда освободится дежурный врач. Вопрос, вне всякого сомнения, был чисто профессиональным:
— Вы кто ей?
Перед ним стояла седая усталая женщина с застиранными руками (не от стирки, натурально). Взгляд не лишен доброжелательности. Она ждала.
— Седьмая вода на киселе, — ответил он чистосердечно и с ужасом почувствовал, что женщина утратила к нему всякий интерес — Я с фронта к ней приехал, — спохватился он. — И мне сегодня обратно двигаться. Я должен знать на будущее.
Но слово вылетело, а присказка к нему известна.
— Ночью провели операцию, — отвечено ему было. — Пришлось извлекать плод. Положение, прямо скажу, серьезное.
— Я буду ждать, — объявил Сухарев упрямо.
С мимолетным удивлением женщина глянула на него и скрылась за дверью. Он остался на лестничной клетке во взъерошенном одиночестве. Счастливых отцов здесь не было. Две старушки богомольного вида безмолвно вжались в скамью. Старший сержант в юбке (войска связи, к примеру сказать) деловито мерил посетительскую кирзовыми сапогами. Пожилая женщина с узлом в руках маялась у дежурного окошка.
Сухарев выбрался на скудный местный скверик, неотрывно сосал папиросу за папиросой, вскакивал, садился снова, во дворике изредка показывались белые халаты, небогато тут было персоналом. Сухарев подбегал, по халатам было не до него.
«Отчего я на трофейную выставку не еду? — горемычно думал он. — Хоть бы в кино прошвырнуться, она-то теперь свободная, а как с чужим ребенком быть?» — мысли были спутанными, а самое тягостное, неизведанными. Не привык он к тому, чтобы его прямолинейные мысли путались в темных закоулках пунктуации. Если вам угодно, первый раз в жизни прямолинейность его мыслей была нарушена, и он остался в полной неясности о самом себе, не понимая того, что происходит, и будучи не в силах освободиться от происходящего.
С улицы прошла одинокая женщина, горестно неся выпирающий живот, проехала желтая машина, может статься, та самая, девушка в телогрейке прыгала перед окном, пытаясь докричаться сквозь форточку, белые женские лица, размазанные за стеклами, заинтересованно вглядывались в него из многих окон — все тут следовало чередом той годины, только сам он и мысли его были беспорядочными. Он колесил по дворику, сглатывая липкую слюну, подбегал к сестрам.
В конце концов и он докричался.
— Хирург-то в родилке, — известила его нянечка, морщинистая и всеведающая. — Чего тебе надобно, офицерик?
— Как Рита Коркина?
— Ты кто ей будешь-то?
— Муж я, муж ее фронтовой, — мучительно вскрикнул он, еще секунду назад не догадываясь о том, что сможет решиться на такой выкрик. — И ребенок там мой!
Нянечка понятливо качнула головой:
— В таком разе ясно. В другой дом ее повезут, если позволят.
— А ребенок?
— Ты прежде спросил бы, сын или дочка?
— Кто же? — растерянно спросил Сухарев. — Живой?
— С наследником тебя. Живой, куда ж он денется?
— А с ней-то, с ней что?
— Консультанта затребовали по телефону. По-ученому сказать не могу, а по-нашему: не в себе она, память потеряла. Верно, не ждала тебя. Но ты не убивайся, пройдет у нее, все проходит.
— Как бы с ней повидаться? Крайне необходимо.
— Это не положено. Она же тебе ничего не ответит, такое у нее состояние. А записочку можешь написать, я ей вручу, придет в себя, прочитает, грамотная небось. И передачу какую, леченье там или молочко, это бы ей на пользу. В коммерческом купишь.
Сухарев припустился в коммерческий гастроном, суетливо и нерасчетливо нахватал пакетов, коробок, банок, истратив без остатка денежное довольствие. Записку он писал, не думая, но вышло в строку: и марку выдержал, и дал понять… В завершение вышеуказанных действий сунул няне зеленую бумажку и вышел на улицу огорошенный, опустелый, так и не поняв, что же такое с ним приключилось нынче.
Он и теперь, стоя за холодным мраморным столиком и заглатывая пивного ерша, не понимал про себя.
— Зачем же кричать, спрашивается? — недоуменно переспросил он у жердястого майора. — Я тоже бывал на краю. Но я не кричал. А вот теперь от крика уши развесил.
— Есть крик, а есть выстрел, — философски вывел майор Дробышев. — Что сильнее? Ответ ясен: войну не перекричишь. Если ты должен умереть, то умри молча. — Он с чувством поднял кружку, разглядывая на свет замутившийся остаток. — Предлагаю выпить за женщин, которые молчат в тряпочку.
— Ты видел таких? — неожиданно рассердился Сухарев на вечного друга. — Где ты таких видел, спрашиваю? То-то! — Прошел час или сколько там, как он был задержан патрулем и, следственно, вернулся в русло привычной ему армейской жизни, однако же этот день с его вконец запутанными мыслями и поступками уже навсегда оставил в нем свой незадачливый рубец. И не отпереться теперь от этого разлюбезному Ивану Даниловичу.
И не следует.
— Я, пехота, всяких видел, — отвечал майор без обиды и не желая обидеть друга, но лишь соли подсыпал на рану. — Полгода, считай, в Москве вместе с госпиталем. Наш брат сейчас в почете, только свистни…
— Не видел твоей Москвы и не желаю, — зломысленно перебил Сухарев. — Нам по окопам сподручнее.
— Слушай, Батькович, да ну их к богу. Да чтобы мы нашу дружбу на этих баб променяли… Скажи лучше, как там Михайловский Юрка?
— Хлопнуло твоего Юрку. Записан навечно в списках небесной канцелярии, — мстительно продолжал Сухарев. — У нас ведь стреляют. И растворяются в мироздании.
— А Сашка Бурков? Младший лейтенант?
— Прямое попадание в блиндаж — и точка! Выбыл из строя живых и страждущих. Исполнил долг до конца. Погиб героической смертью.
Дробышев запричитал, взмахивая покалеченной рукой:
— Неужто и Сашка? Да быть того не может! Какой парень! Как он песни Лещенко пел. Не может того быть, чтобы такой бессмертный парень пропал. А Юрка Рылов? Ой, не говори мне…
— И он героической. Героической, — тупо твердил Иван Сухарев.
Нина смотрела, как Маргарита Александровна спускается по лестнице, и не узнала ее. И лестница тут была пугающая — с сеткой от пролета до пролета. И окна зарешечены железом.
— Ритуля! — с надрывом выкрикнула Нина, бросаясь к подруге и непроизвольно пытаясь скрыть за этим криком свой испуг, возникший при виде Маргариты Александровны. Та казалась постаревшей вдвое. А куда девалась глубина ее открытого для людей взгляда? Лучистые глаза эти угасли и застыли. И двигалась она как бы против воли, будто в ней пружинка сломалась или завод на исходе. А главное, глаза-то, глаза…
Слабым движением руки Маргарита Александровна беззвучно ответила на приветственный зов подруги и продолжала идти к дверям. Нина опередила ее, всплеснув руками.
— Ты прекрасно выглядишь, Ритуля, — говорила она, как умеют говорить только лучшие подруги: с полным ощущением искренности. — Снова стала стройненькая, щечки округлились…
— Спасибо, что ты пришла за мной, — отвечала Маргарита Александровна без всякого выражения. — Я получила твою записку и знаю о твоем несчастье.