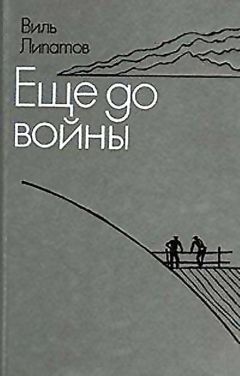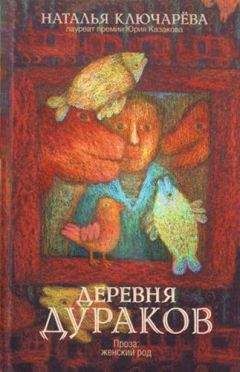Потягиваясь и держась руками за концы яркого платка, причесанная на гладкий пробор, Гранька неотрывно глядела на прозрачную луну. «Хороша! — медленно подумала Рая Колотовкина. — Вот бы подружиться с ней!»
Гармонист «Катюшу» играл душевно, девчата пели сердечно, а по слюдяной дороге медленно прогуливались Раины родственники — дядя Петр Артемьевич и тетя Мария Тихоновна. Они гуляли по-городскому, то есть дядя держал тетю под ручку, а это в Улыме было непривычным, так как даже молодые люди стеснялись городского обычая, под ручку не ходили, а делали так: девушка обнимала парня за талию, парень левой рукой обхватывал девушку за плечи, и вот в такой тесности они двигались как бы одним телом. Между тем председатель Петр Артемьевич вот уже полгода гулял с женой по деревне под ручку — на виду у всех вел Марию Тихоновну бережно, осторожно, как барыню-сударыню.
Рая вслед старикам глядела ласково, нежно, отчего-то вздыхала. Ночь была такая торжественная и светлая, такая теплая и уютная, что сердце покалывали сладкие иголочки; хотелось не то петь, не то плакать, горлу было узко от тополиного запаха, и ныли кисти рук, почему, отчего — неведомо! А Гранька Оторви да брось все выгибалась под луной, все напевала сквозь зубы про железного коня, одинокая и вызывающая.
— Стоишь, Раюха? — раздался за спиной знакомый голос. — Погуляшь или домой наладишься?…
Трое двоюродных братьев стояли рядом, сильные, светловолосые, безмятежные, улыбались сестре и были так же открыты, понятны, ясны, как лунное небо над головой, как тополь, как река, которая, казалось, перестала двигаться. У братьев, как у Раи, были квадратные нижние губы — семейная колотовкинская черта, — но она рядом с ними казалась совсем тонкой и такой зыбкой, что они дышали осторожно и говорили тихо, словно боялись, что сестренка рассыплется, хотя Рая была совсем немного ниже братьев.
— Так ты гуляй себе, Раюха, — ласково сказал старший брат Василий. — Если соскучишься, к нам подгребай…
Братья ушли, и почему-то сразу услышалось, как плещется под яром чешуйчатая Кеть, падают в воду с яра кусочки глины, бьет на плесе крупная рыба; девчата на скамейке тихо-тихо пели уже про рябину, которой надо перебраться к дубу, гармонист едва слышно подыгрывал им, свистели над головой крылья невидимых уток, кем-то потревоженных во время сна. Среди кустов левобережья пылал костер, похожий на звезду, что, бывает, ярче других звезд светится на краю небосклона. От костра на черную воду ложился колеблющийся отблеск.
Трактористка Гранька Оторви да брось вдруг скрестила на груди концы косынки, протяжно и грозно свистнув, пошла по темной земле, пятная ее белизной тапочек.
Было уже без пятнадцати два, до раннего нарымского рассвета оставалось не более часу, и уже по-утреннему резко пахло черемухой, влажнеющей травой, квакали дремотно лягушки в Гадючьем болоте, вдруг покатилась по небу светлая звездочка, ударилась обо что-то невидимое и, вспыхнув, сгорела… «Пойду-ка и я домой! — неожиданно решила Рая. — Чего я буду здесь стоять, если все ушли?…»
Белых парусиновых тапочек у Раи не было, шагая неторопливо, она ступала на мягкую траву невидимыми туфлями на высоком каблуке, и скоро ей стало казаться, что она бесшумно плывет в густом теплом воздухе, насквозь пронизанная им; руки сами собой волнообразно изгибались, и чувствовалось, какая у нее длинная, тонкая шея. Все это было странным, непонятным, но таким сладостным, что не хотелось, чтобы дорога к дому кончилась, — все бы плыть да плыть, как в ребячьем сне, когда по ночам растешь… «Я глупая! — неизвестно отчего думала Рая и улыбалась своим мыслям. — Я только думаю, что я взрослая, а я глупая и сама не знаю, чего мне надо…» Потом она подумала, что завтра проснется поздно, при большом и высоком солнце, но тут же решила совсем не ложиться спать, а, забравшись на сеновал, читать.
— Дурочка! — вслух сказала Рая.
В это время она проплывала мимо молодых елок, возле которых сидели на бревнышке парнишки лет четырнадцати-пятнадцати, тихие и грустные именно оттого, что были в таком возрасте, когда домой отцы и матери рано не загоняют, но и на дворе до рассвета делать нечего: во-первых, темно, во-вторых, хочется спать.
Когда Рая проходила мимо мальчишек, они бесшумно поднялись с бревна, глядя на девушку исподлобья, поклонились вежливо, по-стариковски низко. Она тоже поклонилась, засмеявшись, пошла дальше, но вдруг замедлила шаги, так как один из мальчишек за ее спиной громко спросил:
— Никак, Стерлядка?
Несколько секунд было тихо, потом другой мальчишечий голос солидно подтвердил:
— Она… Стерлядка…
За неделю Рая Колотовкина отдохнула и загорела, ноги покрылись царапинами, обветрились, густой здоровый румянец лег на втянутые щеки; всю неделю она спала на сеновале, просыпалась на рассвете и сразу видела сквозь щель зеленую большую звезду. Ходила Рая в коротком городском сарафане, односельчане уже стали понемногу привыкать к нему, не ворчали осуждающе: «Ровно голая!» Девушка уже знала, что в Улыме ее зовут Стерлядкой, что прозвище пошло с того самого вечера, когда старый рыбак Иннокентий Мурзин, человек спокойный, справедливый и мудрый, сидя на лавочке и глядя на проходящую Раю, покачал головой и сказал:
— Чисто стерлядка… Эта рыбина, то есть стерлядка, тоже длинна, тонка, куда хошь поплывет, в каку хошь сторону взбрыкатся. Нд-а-а-а, стерлядка и есть!
До конца недели стояли погожие денечки, на небе — ни облачка, отцветающая черемуха напослед как бы снова набралась сил — пахла густо и тревожно, палисадники были по-свадебному белы, улымские парни засовывали черемуховые кисти за кепки. Всю неделю деревня жила возбужденно, так как киномеханик Капитон Колотовкин еще четыре раза показывал кино «Если завтра война», и зрителей по-прежнему было много, и сеансы кончались за полночь.
В четверг Рая проснулась, как обычно, в пятом часу утра, потянувшись сладко, открыла глаза и сразу увидела в щели большую и зеленую звезду; луна еще не сошла с небосклона, при солнце казалась подтаивающей льдинкой; уже куковала за рекой кукушка, а по двору в белых кальсонах и белой рубашке по колено ходил дядя Петр Артемьевич, похожий на привидение. Он зевал и щурился, что-то искал на дворе с таким видом, словно не знал что. Тетя Мария Тихоновна уже хлопотала вокруг кирпичной дворовой печки — готовила ранний завтрак, и все вокруг радостно пахло дымом от березовых дров.
Полумрак на сеновале был проткнут пыльными солнечными иглами. Рая подставила под них ладонь и увидела сквозь розовую мякоть темные косточки пальцев; она играла с солнечными полосками до тех пор, пока не сделалось щекотно от их горячего прикосновения к коже. Рая вслух засмеялась и решительно начала спускаться с сеновала. На ней были длинные сатиновые трусики, синяя майка, прямые распущенные волосы по тогдашней моде обхватывал железный обруч.
— Здорово! — первым поздоровался с племянницей дядя Петр Артемьевич и поддернул белые кальсоны. — Вот ты мне скажи: куды мог деваться парсигар? Вот где он может обретаться?
Дядя начал курить на пятьдесят шестом году жизни, тетка в дом его с куревом не допускала, и он вечно терял кожаный портсигар, который прятал от Марии Тихоновны во дворе. Вчера портсигар нашли под крыльцом, позавчера — в пазе оконного наличника, неделю назад — в курятнике, а вот где он скрывался сегодня, надо было сообразить, и Рая задумалась.
— Под столешницей портсигар, — наконец сказала она.
— Ох-ох-ох! Сгину я через эту проклятушшу память!
Дядя подошел к столу, который был вкопан в землю посередь двора, пошарив, достал из-под столешницы пузатый кожаный портсигар и тоненько засмеялся, подмигивая племяннице. Потом он сделался очень серьезным, так как начал искоса глядеть на тетю Марию Тихоновну, которая переворачивала ножом жирных карасей на большой сковородке.
Тетка молчала, не обращала на мужа никакого внимания, но дядя обиженно поджал губы, шмыгнул носом и сказал:
— Вот ты заметь, Раюха, как она в любо дело встреват! Ты заметь, заметь, как она носом дышит, воздух в грудях затаиват, ежели я нахожусь при папиросе!… Да ты мне ответь, а не ворочай своех карасей, язва ты сибирска! — вдруг обозлился дядя. — Ты мне ответь, коли я с тобой беседоваю…
Однако тетя Мария Тихоновна и ухом не повела, а перевернула с боку на бок очередного карася, довольно улыбнувшись.
— Во! — обрадовался дядя. — Ты гляди, Раюха, как она меня со свету сживат… Во!
Дядя еще раз поддернул кальсоны, сердясь, подошел к плите, вынул из топки яркий уголек и неторопливо прикурил от него, держа в пальцах.
— Вот ты гляди, Раюха, как она меня преследоват, изгонят и мученически мучит… Мне в речку головой — вот она чего добиватся.
После этого дядя с надеждой посмотрел на тетю, будучи уверенным, что она на этот раз ответит, загодя презрительно оттопырил нижнюю губу и прищурился едко. Однако Мария Тихоновна по-прежнему не слышала его, вела себя так, словно на дворе была одна, и дядя мгновенно увял — походив по траве меланхолически, он сел на первую попавшеюся чурку и поглядел по сторонам рассеянно.